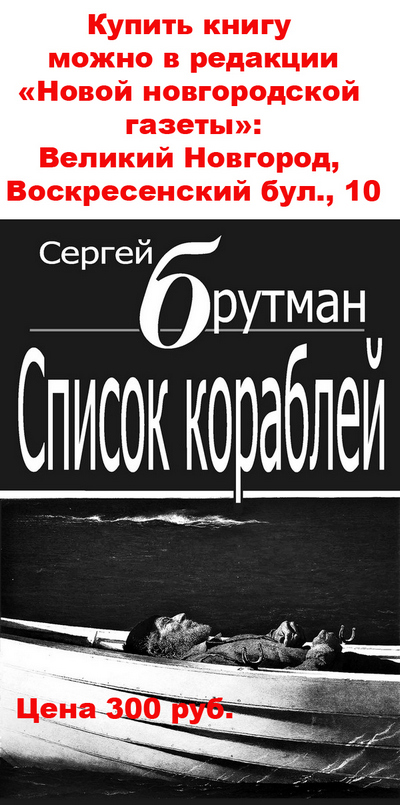Бывшая дочь человека из легенды

Турка уже гудела и мелко тряслась, как старый самолёт на взлёте, но кофе в ней всё ещё отказывался закипать.
Кофемашины, чтобы нажал кнопку, а потом вернулся за полной чашкой, да ещё и с пенным беретиком набекрень, в отцовском доме не было. Монахов всё откладывал покупку, словно в ожидании каких-то перемен – то ли кто-нибудь подарит такой же «Бош», как в офисе, то ли сам Монахов уедет из города. Но и подарка-то не предвиделось, не говоря уж об отъезде.
А за туркой приходилось безотрывно следить. Это было существо коварное и ехидное. Оно пожирало время своего владельца.
Отца это не смущало: он временем не дорожил, ему некуда было спешить. Он оправдывался тем, что варит самый честный кофе – на открытом огне. Сварить такой можно и на костре, и в молодости отцу доводилось так варить кофе не раз. В этих словах старика Монахову всегда слышался смутный упрёк. Хотя, переехав к отцу, в свой родной город, он тоже вынужден был варить честный, безупречный кофе: себе – чаще, чем отцу, которому вообще-то предписывался теперь обманный коричневый пепел цикория. Когда отец капризничал, прикидываясь молодым и крепким, Монахов ставил турку и для него – если оказывалось невозможным скрыть от старика уменьшенную дозу арабики, можно было просто тайком разбавить напиток кипятком. Всё равно в чашке любой кофе непрогляден.
Монахов смотрел на маленького Монахова в узкой медной горловине турки – темноликого, как арапчонок турецкого султана. Отражение ничуть не пузырилось, тогда как сам Монахов уже готов был закипеть. «Эффект Джерома», - подумал он. Джером Кей Джером предписывал делать вид, будто вовсе не интересуешься процессом закипания и даже не нуждаешься в нём. «А что у нас там по телеку?» - громко спросил Монахов прямо в горловину турки.
Телек – цветной, но ещё трубчатый – гундел в комнате: как все горожане, Монахов плохо выносил тишину. Он заглянул в комнату: показывали конкурс юных талантов. Таланты состояли в основном из девочек и девиц, приближающихся к выданью, и это было похоже на конкурс не голосов, а нарядов. В этой клумбе он профессиональным взглядом сразу выделил редкий цвет перванш – бледно-голубой с розовато-сиреневой подцветкой, и жемчужный оттенок серого, называемый гри-де-перль, но тут на кухне будто взревела дюза, он метнулся выключить газ под туркой, а пока выключал, в комнате сквозь «белый шум» телепередачи, производимый людьми, но не более содержательный, чем шум водопада, вдруг проклюнулась тревожная нота. Тревожная, потому что полузнакомая… знакомая, а значит, способная иметь смысл.
С туркой в руке Монахов вернулся в комнату. На экране была девочка, вырядившаяся пышно цветущей яблоневой веткой. В майский сумрачный день, - машинально отметил про себя Монахов: день солнечный, глянцевый отчётливее проявляет в белизне – розоватость. Но он тут же забыл об этом.
- Я хочу посвятить эту песню своему папе, - говорила девочка.
– Потому что мой папочка… - она рыдала и комкала слова, - мой папа умирает.
Пена, пришепётывая, оседала в турке. Часть её перелилась на пол.
- Что, что с вашим папой? – едва не приплясывала телеведущая.
Своей спиной, веснушчатым декольте с острыми лопатками, она заслоняла девочку от Монахова, и он безотчётно изогнулся, будто мог заглянуть за эту вертлявую спину.
- Мы можем чем-то вашему папе помочь? – домогалась ведущая.
- Никто, - захлёбывалась девочка, - никто не может. Никто не смог. У папочки рак…
Напарник ведущей со скорбным видом стоял истуканом – не придумал мизансцену. А она – придумала: обняла девочку за плечи и прижалась висок к виску. Прямо-таки Матер Долороса, Мать Печали. Шоу-биз, фиг ли. Только у Матери Печали не могло быть пружинистых завлекалочек, которые свисали с головы ведущей и, должно быть, щекотали девочку. Вся сцена оказалась бы опошлена, если бы Маша была смешлива, но она, насколько помнилось, не откликалась даже на попытку пёрышком раздразнить её пяточки. «Где мой толстокожий бегемотик?!» - услышал Монахов себя давнего. Теперь «бегемотик» вытянулся, модно исхудал (и, кажется, испытывал некоторое неудобство, не научившись пока носить новоявленную маленькую, но грудь). А всё же это была Маша, без сомнений.
Тем более что оператор как раз показал девочкину группу поддержки. Рядом с её мамой (странно было бы её не узнать) за кулисами стоял и этот её… Кулагин?.. или Калугин? Вечно у Монахова буквы переставлялись в фамилиях, играли в чехарду. Стоял румяный, довольный тем, что его сейчас покажут всей стране, и явно не собирался умирать. К тому же Маша так и не стала называть его «папой»: дескать, я уже не в том возрасте, чтобы привыкать. Да, так жена и передавала.
Не жена, поправил себя Монахов. Не жена, а «бэжэ». Так говорят молодые коллеги в офисе. У девиц бывает «эмче», то есть «Молодой Человек», а у молодых людей – «бэжэ», БЖ, «Бывшая Жена».
Когда старик остался один и в третий раз попал в неврологию с инсультом, Монахов засобирался к нему, а свою бэжэ уговорить не смог. Никаких обид, всё понятно, Монахов был урождённый провинциал, а она – столичная, выросшая на Чистых прудах, и их дочери Москва сулила совсем другие шансы, совсем другие, чем какой-нибудь Зажопинск. В конце концов, Монахову-то столица тоже дала шанс, уже дала, и он им воспользовался, и теперь у него был авторитет столичного профи и даже собственное имя - допустим, умеренной громкости, не имя-имя, но такое, с каким ни в одном Зажопинске не пропадёшь, и эти примечания бэжэ были совершенно лишними, потому что он и сам всё это знал и понимал. Он понимал это даже лучше, чем то, почему возвращается. Не зачем, а почему.
Если на то пошло, кровная связь со стариком казалась ему понятием безнадёжно устаревшим, едва ли Монахов её остро ощущал. Наоборот, он почти гордился, что символические родовые путы оборвались как бы сами собой, были оборваны не им, а самим отцом, когда тот давал сыну имя. У Монаховых в роду велось так, будто род был каким-нибудь именитым: старшего сына всегда нарекали Николаем, и он тоже рождал очередного Николая Николаевича. А в результате каждый Николай Николаевич вроде как лишался самоценности и становился всего лишь звёнышком в цепи, смысл существования которой никто не мог пояснить. Монахов был не просто старшим, но единственным, и отец его остался последним Николаем Николаевичем Монаховым. Но это был бы искусственный повод, чтобы не ехать. Ещё более искусственный, чем ритуальное наследование имени – или ненаследование.
- Так, может быть, ты не будешь сегодня петь? – хлопотала лопатками ведущая. Как будто она не знала от редакторов заранее, что девочка скажет про умирающего отца. Как будто всё это не прописывается в сценарии. Разве что горькие рыдания конкурсантки могли оказаться неожиданными.
Монахову стало неловко. Он отвёл взгляд и рассматривал лужицу на полу. В ней чернели кофейные порошинки.
- Нет-нет, я буду, буду! – всхлипывала Маша.
Тогда они, наконец, расступились, дали Монахову рассмотреть как следует дочь, одетую яблоневой веткой. Небось, именно так она будет выглядеть под венцом: генеральную репетицию он, считай, увидел, и не увидеть сам спектакль, как оно, скорее всего, и случится, будет уже не очень обидно.
Маша, между тем, запела. Монахов всё слышал, хотя слушать сразу расхотел. Оператор держал крупным планом мокрые, слипшиеся Машины ресницы. После слёз голос человека обычно дрожит, как капля росы на тонкой ветке. Но ничего подобного: голос был ровен, пусть и не слишком хорош. Правильный, но плоский голос. Не украшенный хотя бы тонкой трещинкой, как на льду Чистых прудов. И без той бархатистости, которая, как говорили некоторые, свойственна была собственному баритону Монахова. Узнав об этом, он иногда кокетничал, поигрывал голосом, при этом отвечая с усмешкой, что главная особенность бархата – накапливать в себе вековую пыль.
Наплевать. Не в этом дело. Монахов не чувствовал ни восторга, ни разочарования. Он снова ощутил на своём загривке лёгкую, сладостную тяжесть детских ягодичек, горячих и твёрдых, как земляника на обочине: жаркий день среди звенящих хлебов, и тонкие пальцы, путающиеся в его волосах, и покачивающаяся впереди тень от головки в панаме, похожая на гриб, и быстро набегающие на неё тени грозовых туч.
Однако зал, должно быть, был впечатлён слёзной прелюдией и ответил бурными аплодисментами. Это было как если твоя команда забивает чемпиону победный гол на последней секунде добавленного времени. Или как если лох посылает в нокдаун чемпиона. Как тогда, возле кафе, когда бэжэ ещё была не «бэ»…
Он немедленно выключил телевизор. Поискал, куда приткнуть турку, и отёр щёки ладонями, а влажные ладони – о футболку. Взялся было за смартфон, но отложил его: разговор по мобильнику – это звонок ниоткуда, из неясных широты и долготы. Сел в отцово кресло и придвинул к себе старомодный городской аппарат.
Никогда не надо спрашивать себя – почему, - подумал Монахов. – Потому что потому. Знать, почему и зачем, - это пустое знание. Важнее знать - отчего.
Он сейчас вспомнил вот что. Он вспомнил, как в этом самом кресле в последнюю их встречу сидела та, кого он про себя тоже называл «бэжэ» - только в смысле Будущая Жена. Называл, потому что их отношения (ещё одно ужасное слово молодых коллег из офиса) уже миновали стадию «я ей подарил» и перешли в стадию «я ей купил», но ещё не достигли формулы «мы купили». Он сидел на полу у её ног, и они как раз осторожно прикидывали, как может выглядеть этот новый период их жизней. И будущая жэ, у которой определённого опыта, возможно, было больше, чем у него, сказала: «Только давай без этого вот… Чтобы твоя бывшая дочь не мешалась… Не так, чтобы последнюю копейку – бывшей дочери».
«Что-что? – переспросил он. – Что значит – «бывшая дочь»? Это как? Разве бывают «бывшие дети»? Где ты такое слыхивала?».
Они допили кофе, но больше не встречались. Он даже заблокировал её номер в своём смартфоне. Может быть, и она – его: проверить Монахов не пытался.
В лунках диска накопилась пыль. Монахов не звонил с городского с тех пор, как проводил отца туда, куда однажды уходят все отцы. Только ради отца он этот телефон и оплачивал, на этот номер звонил ему с сотового. Но до сих пор не расторг договор с телефонной компанией, как будто отец всё ещё мог позвонить или ответить.
В Москве от городского, оказывается, тоже пока не отказались.
- Привет, - сказал Монахов. – Привет, говорю, это я. А Маша дома?
Он перетерпел шорохи, трески и шлёпанье тапок и сказал:
- Здравствуй. Детка, это было здорово. Только разве я умираю, Маша?
Всё то же невыдающееся и слегка шаткое сопрано, сейчас подпорченное слежавшимся порошком в телефонной трубке, ответило:
- Папа, ты сам говорил, что артисту и писателю легенда нужнее правдивой биографии. Ты сам говорил, что Примадонна придумала сама себя. Или её придумали. Такая вся из себя страдающая от одиночества тётка в стране одиноких тёток, нет? Которая в натуре никак не одинока, да? Ты сам говорил. Ну, может, не самому артисту нужно, а зрителям. Ты же говорил?
- Да, - сказал он, помолчав. - Да, детка. Я говорил. Да. Детка, я только не уверен, что ты – певица. Я плохо в этом разбираюсь, прости, я просто не уверен. А хочешь в актрисы? Мне кажется, у тебя выйдет. Хочешь, я позвоню Аркадию Семёновичу?
- Нет, папа, не надо. Это будет неудобно.
Действительно: если Аркадий Семёнович тоже смотрел эту телепередачу, будет как-то неудобно пугать старика звонком оттуда – из легенды, с порога небытия. Тот ведь знавал Машу, слышал её фамилию с экрана и мог понять, по ком прозвенело её сопрано.
Они поговорили ещё минуту-другую: о видах на экзамен, о её друзьях, которых Монахов уже не мог знать. Просто чтобы разговор не выглядел оборванным.
Монахов положил трубку и отхлебнул кофе прямо из турки. Кофе был мерзкий: пустой – словно суть ушла из него вместе с чёрными порошинками. Зато появился медный привкус. Монахов принёс тряпку, чтобы вытереть пол, наклонился, и его стошнило чем-то чёрным. Его стошнило обильно, как будто он сделал не один лишь глоток кофе.

Через месяц он уже лежал в онкологии. Из палаты он всё же звонил Аркадию Семёновичу, но не дозвонился, к сожалению. А ведь теперь поговорить с Аркадием Семёновичем уже не было бы неудобно, потому что ещё через месяц Монахов действительно был кремирован молодыми коллегами за счёт фирмы.
Куда об этом сообщить, они не придумали: похоже, в последние дни Монахов полностью очистил память своего смартфона.