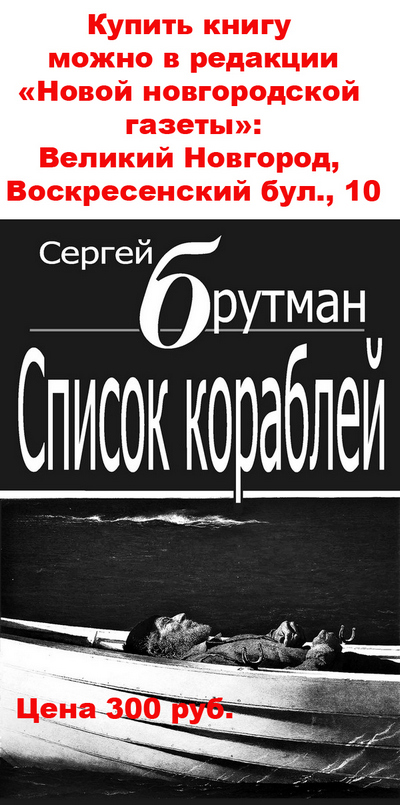Угль

- Ночью опять будет гроза, - сказал Николай.
Я приехал только сегодня, однако это «опять» - понял.
Как обычно, едва побросав вещи, я не удержался, чтобы не заглянуть в лес. Белые меня уже поджидали на знакомых местах, но полоснёшь ножом вдоль шляпки - и надрез складывается в ехидную ухмылочку: червивые насквозь. В полном соответствии с народной приметой о признаках грозовой поры.
 В такую пору, между прочим, белый гриб особенно схож с нами, людьми. Чем барственней осанка, чем классичней образ (ну, прямо картинка из справочника) - тем никчёмней.
В такую пору, между прочим, белый гриб особенно схож с нами, людьми. Чем барственней осанка, чем классичней образ (ну, прямо картинка из справочника) - тем никчёмней.
- Опять гроза будет, а мне - встречай их, - кивнул Николай на свой мобильник.
Вообще-то перевозить людей через озеро - такая у Николая работа. А за ночной перевоз и платят больше. И всё же, стоя на том берегу, на мокрых, гладких, зеркалистых мостках и заглядывая через завесы камыша в далёкий просвет между лесистыми островками, в котором должна появиться моторка, сам я испытываю всякий раз не только приятное волнение, но и некое стеснение. Вот так же стесняют меня до сих пор официантки и стюардессы, даже самые учтивые и улыбчивые. То ли советского воспитания след, то ли просто бедности и провинциальности: так приучены были - сам взял треснутый столовский поднос, сам поставил на него тарелки с жирными краями, сам дотолкал по железным полозьям до кассы... Но тут сам, без перевозчика, не преодолеешь шесть километров над водою - не птица, небось.
Николай балуется воздушкой: целит то в птицу чайку, то в галоши, что просушки ради нахлобучены на колья изгороди. Повариха, девушка сочная, как розовая прибрежная волнушка, взвизгивает: это её обувка. Оба знают, что стрелять никто не будет, что и целится Николай только ради этого взвизгивания.
- Говорят, ночью им ехать сподручней. Пробок, дескать, нет.
Раз пробки - значит, столичные едут. Столичные - они такие... Какое им дело до того, что перевозчику приятнее было бы в тёплой кухне смешить Наташу-волнушку рассказами о проделках своего сильно озабоченного кобеля по имени Ганс, пугать россказнями о медведице, которая бродит в ближних буреломах, и подмечать, как большая грудь поварихи по-разному волнуется то от смеха, то от страха - а то и от предвкушения чего-то, от надежды, связанной не с Колей даже, боже упаси, и вообще ни с кем конкретным, а так... от вечной женской надежды.
Должна, по всему должна была грянуть гроза. Уж очень напряжённо и пристально глядело закатное солнце из-под туч, прижимавших его к лесу. Тучи цвета сгущающихся сумерек, едва выделяясь, были и сейчас несомы краем полуострова.
Отдельной грядой, за ними и выше них, проплывали и отдельные облака - светлые, как вата иван-чая с околицы.
У нас тут такие, пышно взбитые, часто ходят с лиловыми одновременно, хоть и порознь. Мочит тебя дождь, а впереди - рукой дотянуться - небо лазурно и белопенно.
И вот теперь облака -то севернее нас, то западнее - раз за разом озарялись жёлто-розовым светом. Зарницы были бесшумны, и оттого делалось особенно весело и страшно.
Там, возможно, уже вовсю хлестал ливень, и по шоссе - если там есть шоссе - змеились красные струи, натёкшие с машин, и на обочине размокала, как бумажная, теряла форму фигурка пешего путника. А на нашем берегу было сухо, обыденно, в мелком истоптанном клевере стрекотали невидимки цвета выцветшей гимнастёрки, и над головой трепалось лишь что-то вроде дыма, бесплодного и легко рвущегося в клочья.
В разрывах дымки взошла звезда. Возможно, это была Венера Вечерняя. Так мне хотелось думать.
Нам светила Венера, а у них там занималось и гасло, будто кто раздувал в облаке уголёк, не давая ему остыть. И был это, видно, не Илья-пророк, потому что по-человечески слабым и неровным оказывалось дыхание.
 Перед моим приездом имело место происшествие, странное для города, но не чрезвычайное для нашего полуобитаемого полуострова. Николай голыми руками поймал, по его слову, орла. Хотел - шутит, нет ли - приспособить его мышей ловить. Кошка-то ленится - и как не лениться, нализавшись жёлтых сливок.
Перед моим приездом имело место происшествие, странное для города, но не чрезвычайное для нашего полуобитаемого полуострова. Николай голыми руками поймал, по его слову, орла. Хотел - шутит, нет ли - приспособить его мышей ловить. Кошка-то ленится - и как не лениться, нализавшись жёлтых сливок.
Пока Николай ездил за мной через озеро, Наташа - из жалости или опаски - птицу из-под замка выпустила.
Я птицу эту видел в нескольких от себя шагах. Это был ястреб-осоед. Восковица вокруг его клюва ярко желтела на солнце и казалась неживой, будто и правда вощаная или даже пластиковая. Ветерок пушил его молодое оперение, и он казался ворохом жухлых листьев, мягкой рухляди. Явился он мне за околицей, на перепутье едва заметных стёжек. Остолбенело сидел в высокой траве, свободой никак не пользуясь. Несмотря на вооружение хищника, не пытался отогнать не только меня, но и мух, которые ползали по нему, как по мёртвому. Только удивлённо крутил время от времени головой, и тогда яркий блик бултыхался в выпуклой склянке его глаза, как слеза.
- Подранок он, что ли? - спросил я, глядя на воздушку Николая.
- Да может, в проводах запутался, - предположил Николай.
- Запутался, - почему-то повторил я.
Я вот тоже запутался в своих винах.
Неровно мне дышалось. Виноват был перед всеми, самого себя не исключая. И даже с собой не мог договориться. Ни прощения у себя вымолить не мог, ни перемениться как-нибудь. Вина моя была, как портачка, наколка то есть, и даже хуже: не на коже, а глубже, как бы выжжена в самой плоти: не сведёшь. Я даже на гены грешил...
Сидел оцепенелый, хохлился, и мыслей скверных отогнать не мог.
Точило меня изнутри - и источило. У каждого, наверное, бывает в жизни такой напряжённый, грозовой август, и не один.
Вдруг обнаружилась в небе вторая звезда. Она сорвалась, и пошла наискось через клочья дыма. Должно быть, это самолёт обходил грозовой фронт.
Отсутствовали поблизости большие города с гулкими аэропортами, и лететь эта звёздочка была обречена далеко и долго.
Но пока она была видна, я мог думать о небесной субмарине, с грузом яркого света на борту рассекающей глубокую - до самого до космоса - тьму. Стюардессы, все, как на подбор, по-девичьи узкобёдрые, чтобы не застревать в проходе, но некрасивые, разносили воду и соки, которые всё равно не дали бы обитателям Ноева ковчега забыться, забыть, как им страшно там, на этой глубине, на этой высоте - всем, всем, даже тем, кто об этом не догадывается, и тем, кто прячется в свои новомодные ридеры или старомодные книжки...
Глядя, как этот огромный, но крохотный самолёт убегает от беды, я понял, что тоже хочу в дом.

В третьем часу я проснулся. Может, оттого, что всегда просыпаюсь с рассветом, а за окном было светло. Тихо, но светло: немая канонада шла теперь уже только на севере, за озером. Зарницы вырезывали чёрные силуэты крыш и труб на прибрежных баньках и за ними - все озёрные островки, попавшие в широкую, на километры, полосу сполоха. На островах подробно просматривалась каждая ель и сосна. Ребристые конусы елей были выцарапаны, будто иглой по старому серебру. Ветви сосен змеились чёрными молниями.
Этот призрачный свет больше не веселил. Скорее, тревожил, как подступающая издалека война.
Я подошёл к самому окну. С другой стороны к нему подошёл дождь - быстрый, яростный, короткий, каким землю не насытишь.
Дождь - это всё, что досталось нашему берегу от ненастья. Он один прорвался к нам, а грозу притянул к себе и поглотил водный простор.
Сквозь редеющий звон дождя о жесть мне послышался тонкий, жалобный вой. Возможно, это моторка несётся с того берега, скачет по волнам, прихлёбывает воду, луч лодочной фары растворяется в небесном свете, зато железный нос моторки мокр и ослепительно бел, и белы над ним лица устрашённых ночных гостей, и на корме белы, как бельма, мокрые стёкла очков Николая, правящего путь.

Один мой знакомый любит приговаривать: «Эх, матерь божья, унеси мои печали!».
Я каждый раз поправляю его: «Не унеси, а утоли». Но он не исправляется.
Я поправляю его не потому, что знаю, как называется православная икона. Просто каждый раз представляю себе, как череду серо-лиловых туч несёт над нами и уносит. Они выглядят уставшими и раздражёнными - как всякий, несомый не своей волею. И обязательно прольются где-то злым, несправедливым, холодным дождём. Может быть, там девочка в ситцевом платьице заигралась вдали от крыльца, и наши печали прольются на неё - я ясно вижу её конопушки, и струйки её волос - рыжих, которые быстрее намокают и дольше сохнут, и её бег сквозь высокую траву и сквозь ситчик, липнущий к ногам...
А всё потому, что наши печали не утолены на месте, не развеяны, а только перенесены - западнее ли, севернее ли.
«А что у нас севернее?» - спрашивает мой знакомец. Его вовсе не было со мной на борту Николаевой моторки, но он почему-то здесь, в моей комнате, сидит и качает ногой. Раз он здесь - значит, и девочка в конопушках мне тоже только снится.
Я сплю, но отвечаю, что севернее - мыс, покрытый сосновым бором. Я обращаюсь к северу лицом, наворачивая на себя одеяло. Во сне всегда видишь лучше, чем наяву. И сейчас я вижу, как там неровно дышит огонёк.
Я знаю это место: самая оконечность мыса, зализанная волнами до блеска.
Отталкиваюсь ногой от кроватной спинки и взмахиваю крылом, мягким как одеяло.
 Лечу я низко над изгородями и еловым подростом, подо мной разбегаются золистые тропы, светлые в ночи. Зрение у меня, между прочим, в восемь раз острее вашего, человечьего. Слышу трепет собственных перьев на ветру. «Кии-е» - издаю клич коршуна. Здесь надо брать левее, а теперь - всё прямо и прямо, на оконечность мыса, где рыбаками вбиты в песок жерди и устроен обтянутый плёнкой навес о трёх стенах. В этом полупрозрачном пристанище и плещется бледный огонь, к которому тянут руки двое - то разом, то попеременно.
Лечу я низко над изгородями и еловым подростом, подо мной разбегаются золистые тропы, светлые в ночи. Зрение у меня, между прочим, в восемь раз острее вашего, человечьего. Слышу трепет собственных перьев на ветру. «Кии-е» - издаю клич коршуна. Здесь надо брать левее, а теперь - всё прямо и прямо, на оконечность мыса, где рыбаками вбиты в песок жерди и устроен обтянутый плёнкой навес о трёх стенах. В этом полупрозрачном пристанище и плещется бледный огонь, к которому тянут руки двое - то разом, то попеременно.
- Я тебе говорила: поедем в Испанию, - говорит одна фигура.
- Бубубу, - отвечает другая.
В отдалении женский голос, как правило, легче разобрать, чем мужской.
- Зачем тебе эта рыба? - говорит женский голос. - Я вообще не люблю рыбу.
- Бубубу, - болбочет мужской.
Женские резоны тоже внятнее мужских, как обычно.
- Это правда, что огонь притягивает молнию? - спрашивает женский голос. - Зачем ты развёл костёр? Нас теперь убьёт?
- Бубубу.
Стены их дома запотели изнутри. Они полощутся, не стряхивая капель. Женщина плачет. Или делает вид, что плачет. В принципе, у женщин это - одно и то же.
Если бы я не был птицей, я бы сказал им: дураки, не ссорьтесь, обнимитесь, ведь вас-то двое, вы вместе, и ваши объятия могут быть надёжнее вашего кособокого, хлопающего боками пристанища. Но узкий птичий язык во рту не справится со словами, кии-е. Могу только проклекотать что-нибудь доброе и печальное, как песня птицы Алконост. Но за шумом ветра, волны и полиэтилена вы не услышите меня.
Умеют ли птицы плакать? Я умею, это точно.
Утром я наспех выпил растворимого кофе и пошёл в лес, едва не забыв лукошко. По пути вспомнил, что умыться тоже забыл, и пальцами стёр солёную корку с век.
Шёл, запинаясь о сосновые шишки. В беломошнике краем глаза заметил огромную шляпу на красноватой ножке - боровик из боровиков, сосновый! - но не остановился.
Мистики я чужд, но поверьте на слово: он там был, навес, - на самом краю мыса.
Оно конечно, рыбаки часто ставят там навесы. Однако и кострище было, и недавнее. Похоже, что люди, ночевавшие у него, ушли только что. В этом бору несколько троп, мы могли разминуться.
И, кстати, в песок была втоптана резинка для волос.
Нет, эти люди мне не приснились.
Знаете, как кончаются романы - не литературные, а человеческие? Я знаю.
Допустим, май. Допустим, бурлит чёрная вода лесных ручьёв, в их устьях копится и черствеет белая пена. Налетает ветер, обдаёт черёмуховым цветом - трепетным, мерцающим, и ерошит седину костра, и пепел становится розов. Сучья, источенные огнём, наливаются чернотой. Но пламя ещё дышит в своей берлоге. Какой соблазн: набрать сушняка, подбросить, его окутает паром; проклюнется прозрачный синеватый огонек, фыркнет дымно, окрепнет на попутном ветру. Ещё не поздно, ещё можно. Но сквозь тёплое марево над костром тебе подмигивает надпись на щите у входа в лес, в гуще кипрея. Щит достаточно велик, чтобы ты смог издали прочесть: «УХОДЯ, НЕ ЗАБУДЬ ПОТУШИТЬ КОСТЁР».
Они не потушили костёр. Забыли. Или не захотели.
Может быть, потому, что это был не просто роман?
 Я разворошил сапогом пепел. Под ним оставался один живой угль.
Я разворошил сапогом пепел. Под ним оставался один живой угль.
Угль - я настаиваю на этом слове.
Уголь - это то, что пластами, в промышленных количествах. То, что рубят и грузят. А это был - угль: один.
И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И угль, пылающий огнём, Во грудь отверстую водвинул. Угль, блин!
Водвинь ему серафим в грудь уголь - это было бы бессмысленным издевательством: и над телом, и над призванием. Убийством было бы это: не может человек жить с комом углерода под рёбрами, а вот угль - обязательное условие для жизни пророка, поэта. Да и не только для них.
В груди должно жечь и жечься. Как неискупаемая, неутолимая вина - перед девочкой, промокшей и шмыгающей носом; перед двоими в ночи, которых я вовсе себе не приснил; перед людьми в ноевом ковчеге, убегающем от грозы, и в катере, борющемся с волной...
Иногда хочется поступать глупо и бесполезно. Я почти лёг на кострище, и стал на угль дышать. В глаза мне летели порошинки пепла, но по черноте скользил, скользил слабый блик - признак оживания. Я дышал на него и чувствовал ответное дыханье, всё более ощутимое. Мне казалось, что, если я верну ему жар, что-то должно перемениться. Но прокуренных моих лёгких не хватало.
Тут я вспомнил, что в кармане куртки с вечера остался блокнот. Я записывал в него какие-то пустяки: свечение в далёком облаке, появление второй Венеры. Были там записи и более важные - во всяком случае, казавшиеся мне такими. Я выковырял его из кармана, стал выдирать листок за листком и прикладывать к тёплому пятнышку, который мы оба надышали.
Клетчатые листки смуглели и кукожились, как осенние листья, и скорописные буквы начали приплясывать.
Никогда прежде я не видел свои строки столь живыми, как в ту минуту.
Удалось ли мне добыть огонь?
А разве это так уж важно?
Что вам до этой деревяшки, уже обгрызенной пламенем и брошенной на бесплодном песке берега, покинутого людьми?
Почему бы вам не спросить у меня: смог ли другой угль - тот, что водвинут в меня, перед всеми виноватым, - хоть однажды разгореться и кому-нибудь осветить путь, кого-нибудь обогреть или просто - чаю вскипятить для уставшего, промокшего, продрогшего?
И почему бы вам не спросить у себя: а вами-то был ли хоть раз востребован этот угль, который жжёт меня? Пытались ли вы согреться возле него, или он напрасно тлел столько лет? А если он кажется вам уже ослабшим - пробовали ли вы встречным дыханием вернуть ему силу?
Коллега, с которым мы знакомы уже три десятилетия, часто хвалит мой слог. Но, делая опечаленное лицо, обязательно сознаётся, что не понимает, о чём, собственно, я этим самым слогом пишу.
Не печалься: ни о чём; ни о чём таком, что нужно тебе.
Сергей БРУТМАН
Фото автора.
В заголовке - фрагмент картины Шавката АБДУСАЛАМОВА