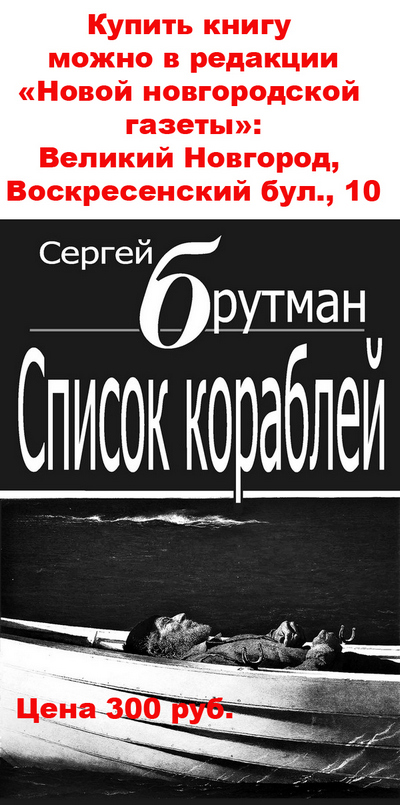Эль кондор паса

МНОГИЕ летают во сне. Так, во всяком случае, говорят. Считается, что это связано с ростом детского организма. Но некоторые продолжают летать и потом. Летать летают, но уже не растут. Думаю, они должны испытывать при этом какой-то внутренний конфликт. Какое-то томление тела, которому не удаётся и дальше тянуться к солнцу. Или, наоборот, духа, который парил под луною понапрасну.
Спрашивал – не признаются. А сам я не знаю. Я и в детстве не помню таких полётов.
Я вообще не очень-то рос и в итоге не очень вырос. Нет, одним летом – вдруг – вытянулся весьма прилично. Долго ещё этот рывок помнился дверному косяку, на котором карандашом отмечались этапы моего возрастания. В тот раз ставить отметку доверили мне самому, и я до сих пор помню скольжение карандаша по белой масляной эмали: надо было сильно нажимать, чтобы грифель с тихим хрустом врезался в эмалевую наледь и оставил на ней след. А вот летучих снов даже в то лето – не помню.
Я из числа других, возможно – тоже многих. Эти другие во сне не летают, но падают. Странно падать, если ты не в небесах, но так бывает.
Читал однажды, что это как-то связано с работой сердца. Сердце у меня всегда работало так себе, это правда. Когда однажды у «кукурузника», на котором я летел, остановилось сердце - заглох двигатель - и самолёт, прежде чем начать планировать, в тишине ухнул сначала вниз, я даже не испугался, в отличие от других пассажиров. Мне показалось, что сейчас я просто проснусь, как всегда в таких случаях, дело-то привычное, привычнее полёта.
ОТСУТСТВИЕ опыта в вольных полётах тела и свычность с падениями, должно быть, обернулись страхом высоты. Даже с моста вниз смотреть страшновато.
Это не такой страх, который заставляет отшатнуться, делает трусом. Скорее – ужас, который не только отталкивает, но и манит. Как на той опасной, скользкой от голубиного помёта жестяной кровле, звучно прогибающейся под ногами, превращая каждый шаг в коротенькое падение, - на той двускатной крыше, с которой с одной только и можно увидеть в детстве городские горизонты и загородные дали.
Между прочим, психологи говорят, что большинство проблем, которые мучают горожан, порождены именно тем, что они с детства не видят горизонта.
ГЛЯДЯ с высоты, начинаешь понимать странное обывательское выражение – «ужасно красиво».
А также поэтическое выражение - «гибельный восторг».
ЕСЛИ ПОМНИТЕ, у Сергея Довлатова в «Заповеднике» есть эпизод, когда турист в Пушгорах при виде окрестностей пристаёт к экскурсоводу: «Скажите, это – дали?». У него дома есть открытка под названием «Псковские дали», и он хочет удостовериться, что лично сумел войти в пространство, бывшее раньше бумажным и плоским.
По-моему, со стен Изборской крепости эти самые «псковские дали» смотрятся даже лучше.

На Новгородчине тоже есть такое местечко, которое распахнёт перед вами «валдайские дали», не менее впечатляющие. Надо свернуть со столичной автотрассы на Яжелбицы и смотреть направо. Через несколько километров вы сами найдёте эту точку. Надо выйти из машины, подняться на всхолмие, обжигаясь о крапиву, - и вот оно.
У ВСЯКИХ «далей» есть общие признаки. Сначала пейзаж обрывается вниз, грозя увлечь вас за собой, потом стелется к горизонту, а там снова вздымается.
По «далям» всегда скользят пятна света и тени: небо над ними редко бывает неподвижным, безоблачным. От движения облачных теней пейзаж колеблется, как грудь человека, взволнованно дышащего – как ты сейчас.
«Дали» богаты деталями. Они прошиты, как древесный лист, жилками светлых дорог. И ослепительными петлями равнинных речушек и ручьёв. Бархатятся клевера. Или – после дождя – мелко отсверкивают. Темнеет овчина ельников.
Солнце, даже скупое, обязательно блеснёт на берёзовых рощах и пролесках и сыграет на осиновых промежках, разделяющих поля. Жёлто пыхнёт квадрат рапса или простой сурепки. А может, это будет подсохшее жнивьё. А если хлеба не сжаты ещё, вы издалека поймёте это по ласковому, шелковистому отливу земного лоскута.
Там будут красные, зелёные или серые крыши, и под каждой из них вам захочется заночевать - так вагонного странника тянет к домикам путевых обходчиков, тянет даже из роскоши спального вагона. Вы сможете прочесть, как книгу, повседневную жизнь владельцев этих крыш, если начнёте расшифровывать вязь тропинок, соединяющих дом с домом, с лесом, с дальним стогом, с каменным строением вроде скотного или машинного двора.
Словом, «дали» - это макет большого, сложного мира. Но макет, пригодный для жизни, а не игрушечный. Понарошечные миры из папье-маше тоже «ужасно красивы», к ним тянет. Купи билет – и глазей. Разница в том, что они пригодны лишь для осмотра. И в том, что они построены человеком в расчёте на человека, на взгляд с высоты его роста (даже такого, как у меня, не летавшего во сне). А настоящие дали вам видятся такими же, как птице, вольно и безбилетно над ними пролетающей.
РЕДКОГО человека встречный холм не соблазнит подняться наверх. Даже если человек этот умён и, по расхожей мудрости, в гору идти не должен.
Есть кое-что поважнее практичного ума.
ДАЛИ валдайские я осматривал как-то раз не один, а в компании с белыми аистами. Они расхаживали по краю моего наблюдательного пункта, высоко поднимая ноги, будто выдирая их из вязкой гущи белого клевера, которая доходила им почти до шишковатых коленок. Несколько раз опускали клювы в зелёную глубину, но лягушек, должно быть, не находили. Я тем более был им неинтересен: они лишь старались не подпускать меня слишком близко. Шаг за шагом отступали к крутому спуску, за которым, собственно, и открывались «дали». И там застыли.

Я продирался к ним, шумя клеверами, - аисты не обращали внимания. Время от времени они взмахивали крыльями, однако улетать медлили. Возможно, они просто ощупывали ветер, и им не нравилось его направление или сила. Но хотелось думать, что они тоже залюбовались нашим – нашим с ними - миром.
Птицы стояли долго. Поворачивались друг к другу, разевали клювы - ветер доносил до меня их скрипучие диалоги.
Потом улетели, конечно.
Они - умеют.
ЧЕГО ТОЛЬКО не найдётся в Интернете.
Да и искать не надо. Интернет сам тебя найдёт, и, будто читая твои мысли, подсунет очередную ссылочку.
Видео, снятое, должно быть, на телефон. Там в кадре много людей с телефонами, и все усердно снимают происходящее.
Люди привезли большую птицу и выпустили её из клетки.
Кондор к клетке привык. Похоже, в ней и вырос. Клетка, в которой он рос, была, полагаю, много больше, чем та перевозка, в которой его доставили. Но в слове «вольера» нам напрасно слышится отзвук слова «воля». Voliere по-французски – всего лишь «птичник», а воля как свобода, вольность и простор – вовсе liberte (которая норовит сообразить на троих с фратерните и эгалите*). В воле обитателя вольеры сделать невеликое число взмахов, чтобы перелететь с сука на камень.
Теперь люди привезли кондора в горы. Дали ему волю подступиться к самому обрыву.
Горизонт был зубчат и фиолетов. Ветер колыхал травы.
Кондор посмотрел вниз и вперёд – в дали.
Если дали пьянят даже с холма - представляете, каковы они в горах? Я вот представляю, как перехватило дыхание у большой сильной птицы. Ведь у меня бы - точно перехватило.
Подробности «далей» остались за кадром. Но можно не сомневаться, что там имелось всё, что полагается: и жилы рек и троп, и завитки древесных крон, и какие-нибудь хижины, и белые брызги овечьего руна. Etc.
Кондор вздымал крылья. Опускал и снова вздымал. Всплёскивал ими, как люди всплёскивают руками в удивлении или восторге.
Подъятыми крыльями он ощупывал ветер, как мои валдайские аисты, и было видно, как трепещут кончики перьев.
Он отходил о края. И снова возвращался. И снова отступал. И снова возвращался.
Люди терпеливо ждали. Несколько раз птица оборачивалась к людям. Опять поднимала крылья и потрясала ими. Казалось, что кондор то ли показывает людям: да, они есть у меня, но что мне с ними делать? То ли желает благодарно обнять людей, впервые показавших ему большой мир. Фратерните и эгалите разливались по экрану.
А вот интересно: чего всё же люди ждали, на что рассчитывали больше – на то, что кондор полетит, или на то, что его придётся снова грузить в клетку и везти обратно в неволю? Во что они верили больше?
Да, интересно: сами они пытались мысленно встать на место кондора – на место на обрыве, над синей дымчатой далью? Как оценивали собственную способность сделать выбор между незнакомой, непробованной ещё свободой полёта – и уютной несвободой? Между сытой долгой несвободой - и свободой, которая может оказаться короткой, гибельной?
ПТИЦА всё переминается на краю да бесплодно взмахивает крыльями. Оттого шестиминутное видео кажется бесконечным, как «мыльный» сериал, в котором неизбежный уси-пуси-финал всё оттягивается.
Потом птица всё-таки отталкивается от камня.
Взлетает.
КОНДОР – птица тяжёлая. Проживает человеческий век: в природе – лет пятьдесят, в вольере – под семьдесят, и с годами может потяжелеть до пятнадцати кило.
В вольере кондор привык думать о себе как о предмете тяжёлом. То-то должен был он удивиться, обнаружив, что ветер легко удерживает его на своих прозрачных ладонях!
КОНДОР ЛЕТИТ!
Он впервые слышит звуки, наполняющие пустоту, которая оказывается для него твердью. И даже не догадывается, что эти звуки издаёт он сам.
Есть такая песня - El Cоndor Pasa, «Кондор летит». Музыка не народная - написанная, между прочим, интеллигентом, а всё же этническая: составленная из созвучий, какими мыслят люди гор, привыкшие видеть дали.
Звук вибрирует, как перо большой птицы на ветру.
Если бы орган и арфа были существами одушевлёнными, плод их любви имел бы именно такой голос: глубокий, но лёгкий. Не сотрясающий душу, но щекочущий её.
Зачем её сотрясать? Это может вытряхнуть её, опустошить. Души надо касаться так, чтобы она наполнялась: наполнялась беспокойством, жаждой движения, полёта.
Полёта куда – потом разберёмся. Для начала – зазвучать бы.
СТИХИ к мелодии птичьих крыльев написал Пол Саймон (который «Саймон и Гарфункель», если помните таких). И в них, между прочим, нет ни слова об экзотической птице кондор, которая водится далеко не везде. Вибрирующий голос Гарфункеля выводит: I’d rather be a sparrow than a snail – «Я лучше был бы воробьём, чем улиткой». Хотя воробьи понятия не имеют о далях.
ЭЛЬ КОНДОР ПАСА. Потом садится на камень на соседнем отроге, подальше от людей: всё-таки либерте – сильнее, чем фратерните.
Смотрит в небо, в котором кружатся другие кондоры.
Конец фильма.
ЧЕГО В ЭТОМ фильме мне не хватает: мне надо, чтобы было ясно: кондор снова взлетает.
Парит.
Кружит вместе с другими кондорами, наполняя небо беспокоящим нас звуком.
Улетает.
И не возвращается.
А вы бы - вернулись?
 ГЛЯДЯ на валдайские (псковские, владимирские, карельские etc) дали, я ни о чём особо умном не думаю. Внутренний голос хладнокровно отмечает: «Родина».
ГЛЯДЯ на валдайские (псковские, владимирские, карельские etc) дали, я ни о чём особо умном не думаю. Внутренний голос хладнокровно отмечает: «Родина».
Ну, не совсем хладнокровно… Он вибрирует, как перо на ветру. Щекочет душу. Как там в песне Саймона на мелодию летящей птицы? «Человек привязывает себя к земле, Он даёт миру его печальный звук, Его печальный звук».
К этой земле – попробуй не привяжись.
Я знаю людей, которые навсегда улетели за океан – не на своих трепетных крыльях, а на стальных, полных спокойствия и надёжности, но…
Он улетел от нас далеко и навсегда. И пропал. И вдруг - «Хэллоу?!» - позвонил. И спрашивает: «Как у вас?». «Было жарко», - говорю. «Хорошоо», - мечтательно тянет он. «Уж слишком было. А теперь вот дожди». «Хорошоо». «Чего же тут хорошего?» - возмутился я. «Ни фига не понимаешь», - сказал он печально. И слышу - заплакал там, в своём непоправимом далеко и навсегда.
РОССИЯ – страна плосковатая, хотя и в ней далей хватает: обширна страна.
Раз птица большая - она тяжёлая. Россия привыкла думать о себе так, она привязывает себя к земле и не слишком верит в свои крылья. Долгие годы она не летала во сне, а падала: расти ей уже некуда, а с сердцем у неё – что-то не то. Она пока сидит на камне и только смотрит, как кружат другие птицы.
ГЛЯДЯ НА ЛИЦА людей, выходящих на наши площади не за покупками, а за тем, чего не купишь, я отмечаю: «Родина».
В их глазах я не вижу жадного блеска приобретателя. Это глаза людей, жаждущих трудной и жгучей тропою взойти на холм. Только тот, кто поднялся на возвышенность, сможет увидеть - сквозь синюю дымку гибельного восторга - дали, достойные полёта над ними. Сможет услышать мелодию ветра, ощутить и оценить его силу и направление.
То, что я назвал «Родиной», подняло крылья, но ещё раздумывает: что с ними делать и получится ли их использовать.
Невидимый ветер ерошит мои волосы, движет облаками и весёлыми солнечными пятнами. Сын органа и арфы напевает нам. Подпойте ему: «Россия будет свободной!».
ДА БУДЕТ, будет, конечно. Когда-нибудь.
Жаль, что я не верю в решимость большинства чем-то поступиться ради этой самой свободы. Оно убедительно объяснило мне, что ему нужнее другое.
Но мало ли… Может, спустится на тросах с колосников над сценой, исчерченной дорогами и реками, знаменитый древнегреческий deus ex machina, «бог из машины», любимый герой и русской драматургии тоже, и всё устроится в результате какого-нибудь катаклизма: мора, глада, огненного града, нашествия жаб или пёсьих мух по-библейски… Землетрясение? Или вот – астероиды вьются над планетой, метеориты?..
И пусть, думаю я, так даже лучше: всё равно Россия не любит испытывать чувство благодарности, боится и избегает его, и тех, кому должна быть благодарна, норовит унизить и изничтожить. А «богу из машины» это всё равно: тросы – с тем же вибрирующим небесным звуком - вознесут чудотворца обратно.
Ан нет - не выйдет. Вот и очередной сблизившийся с нами астероид 2019 OU1 28 августа пролетел аж в миллионе километров от нас.
Придётся как-то самим.
Так что возвращаемся к упражнениям.
На счёт «раз» подними крылья, большая птица. Обними ими пространство. На счёт «два» - крыльями встряхни. Слышишь томящую музыку ветра, просеянного через перья? Она рождена тобою.
Эль кондор паса.