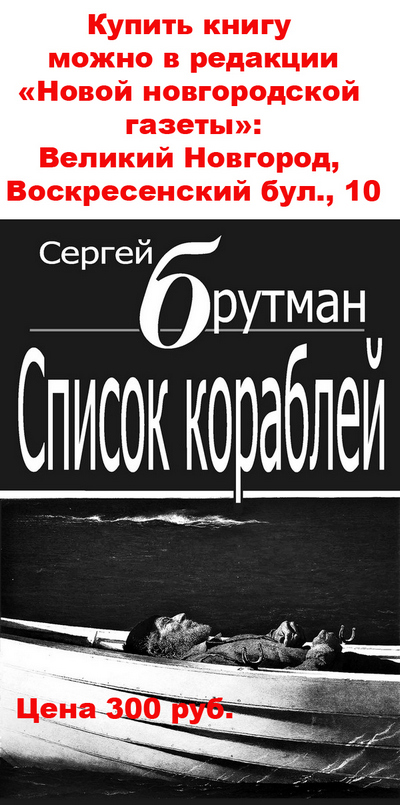Антинародная Муму

Бедная Лиза утонула, чем и определила будущее русской беллетристики.
Это многое объясняет в характере отечественной «художественной литературы», которая после Лизы уже не полюбит счастливых финалов для безмятежных героев. И для мятежных тоже.
«Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы там, в новой жизни увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!». Бумага всё стерпит, любые слёзы и слюни умиленья, но хотелось бы убедиться, что, увидев в «новой жизни» то, что было нежным, Карамзин не брякнулся бы без чувств.
Это всё Шекспир, конечно, виноват, а более – иллюстраторы Шекспира: Офелия в «плачущем потоке» и в лилиях, по-прежнему прелестная и покойная лицом, почему-то не распухшим, не осклизлым, не поросшим мелкой водорослью, как это бывает на самом деле.
Заметьте: в отличие от Офелии, по безумию своему даже не понявшей, что с нею происходит, Бедная Лиза утопилась сама - сознательно и старательно.
Я в детстве трижды тонул и потому полагаю: чтобы утопиться, надо иметь прямо-таки нечеловеческую решимость.
Вот в том, чтобы шагнуть с тою же целью, как сейчас модно, во многометровую пропасть – в зияние, в свистящую пустоту – есть, подозреваю, обманчивая лёгкость: это можно сделать, так сказать, с разбегу – и буквального, и душевного, в секундном порыве. И ты не самолёт российского премьер-министра – не развернёшься над своею Атлантикой обратно. А тело утопающего, почувствовав неладное, начинает сопротивляться, даже если не обучено плавать. Это сопротивление, его напрасность, безысходность, ужаснее всего. Такую силу отчаяния, которая может победить инстинкт выживания, даже представить себе трудно.
Бедная Лиза предрекла последующей нашей литературе душераздирательную двойственность.
Школьники проходят «Бедную Лизу», но как-то мимо. Зато мимо «Муму» не проходит никто. Она всегда с нами. Даже с теми из нас, кто не имеет страсти к чтению и способности к глубокому сопереживанию. «Муму» - часть нашего фольклора, а значит – часть нас самих. Достаточно того, что известно неприличное, но устойчивое выражение «[любиться* с] Муму». В смысле – нудить, морочить голову, нести чепуху, да много чего ещё, сами знаете.
*Наверное, это от возраста: я теперь пурист и в публикациях не выражаюсь.
Сорок лет назад, когда на плацу чужой комбат громко наставлял служилых, я услышал от своих однополчан, предпочитавших русскому литературному языку – правдивый и могучий, что воспет Тургеневым: «Э, опять Герасим [вступил в сношения с] Муму!». Наверняка многие из вас захотели бы сказать то же о своих начальниках уже потому лишь, что они – начальники, но живописность выражения простых солдат потрясла меня тем, что речь этого комбата чуть менее чем полностью всегда состояла из «э», «ну», «итить», а также неких шипящих, рычащих и ноющих звуков.
Его батальон явно понимал проповедь – наверно, по привычным интонации и мимике. Но мы были из другого батальона…
С точки зрения литературного вкуса это, конечно, перебор, да только от правды не уйдёшь: майору и фамилия-то была Герасимов, клянусь.
Словом, «Муму» - это то, что всегда с нами, с каждым из нас. Если герой анекдота удивляется, что «Муму» Тургенев написал, а памятник Чехову поставили», это, может, в нём вовсе не непросвещённость говорит, а глубокая рефлексия.
Понятия не имею, как трактуют этот шедевр школьной программы учителя нынче. Моя же учительница сверялась со своими студенческими конспектами, а училась она ещё при Сталине (я однажды заглянул в её толстую тетрадь и увидел даты лекций). И для неё Герасим (не майор, а дворник) был представителем народа-страдальца.
Я был ребёнок пытливый. Я честно пытался найти на образе Герасима следы страдания. Не нашёл ничего примечательного, кроме красной рубахи. Человек утопил собачку – и «по-прежнему важен и степенен»: где тут страдание?
Собачку утопил! Собачку, которая ему глаза и нос вылизывала!
В последний миг «она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком».
Как же ей, маленькой, стало мокро, и холодно, и страшно, когда камень тянул её на дно!
А бородатый великан имел счастье не слышать «ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды; для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен», так что оставалось ему отвернуться да зажмуриться, чтобы притупить в себе страдание.
Знаю я, каково оно - сострадание.
Сидели мы, сложивши руки на партах (таких, помните ли, со скошенными крышками) и томясь в токе учительского голоса, который монотонно вычитывал нам из хрестоматии: «Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром... бу-бу-бу… Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для неё, и трепетала при одной мысли, что её полынья вот-вот замёрзнет и ей некуда будет деться… бу-бу-бу…». И я уже стал клониться головой, отяжелевшей, как еловая макушка под мокрым снегом, но тут «Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце» - и класс взорвало рыдание, неукротимое, как рвота, и такое же горькое.
Рыдала девочка в белоснежном воротничке и с толстой косой. Она страдала вместе с Серой Шейкой, чувствовала тот же ужас, и нечем было её утешить.
Страдала вместе с кем? Даже не с собакой, а всего лишь с птицей! С уткой, которая ассоциируется у большинства из нас разве что с румяной корочкой поверх и антоновскими яблоками внутри.
Каждый раз, встречая статную даму с высокою причёской, которою оборотилась теперь её коса, я вижу перед собой ту девочку и испытываю прилив уважения.
Между прочим, уже когда все мы сделались бабушками и дедушками, Дама С Причёской поделилась со мною своим недавним открытием. Она обнаружила, что мужчины, несмотря ни на что, – существа внутренне нежные.
Проникнуть в эту оберегаемую мужиками тайну могла только та, которая была оснащена способностью сопереживать какой-то там утке. Это свойство дано не каждому и, что ещё хуже, оно не лёжко и подвержено выветриванию на сквозняках судьбы, а бывшая девочка с косой умудрилась его сохранить.
В избирательность этого чувства (сочувствую только рабам Божьим, не сочувствуя Божьим тварям) я лично не верю.
На заре нового общественного строя, я рассказал своим детям о расстреле царской семьи – вместе с отпрысками и собачкой Джимми.
«А собачку-то за что?» - изумились мои дети.
Инстинктивно они понимали, что на собачку не могла лечь даже воображаемая тень какого-то социального греха. Если люди вершат – пусть вкривь-вкось – свою историю, то животные в ней деятельного участия не принимают. Животные умеют только любить или не любить нас, кем и какими бы мы ни были. Убивать только за любовь – перебор даже для злобливых, мстительных, пьяных.
У них у самих была собака, и они с ней были дружны.
По конспектам сталинской поры всё выходило складно. Герасим являлся безусловным выразителем народной природы. Даже его немота была лыком в строку: «улица корчится безъязыкая», скажет поэт после Тургенева. Герасим – угнетённый и неспособный выразить себя в слове, обращённом к «причудливой старухе», у которой служил, и к вышестоящим классам вообще. В целом народ, конечно, очень даже умел себя выразить в слове 0 могучем, и правдивом, и даже затейливом (см. заветные сказки Александра Афанасьева и словарь Ивана Бодуэна де Куртенэ), но, согласно конспектам, баре должны были этого языка не понимать.
Я не спорил с училкиным конспектом, когда Герасим поселился в моей школьной программе – в особой дворницкой каморке под замком, ключ от которого дворник всегда носил на поясе. Не спорил и позже. Нечто истинно народное в образе немого дворника проглядывало.
Самая страшная для меня сцена в тургеневском рассказе – даже не утопление собачки, а идиллия в трактире, где Герасим спросил щей, «накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья (…). Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь».
С вежливостью… Едва прикасаясь… мордочкой… Никак туманится монитор моего компьютера?
Тридцать лет назад Гусев, бывший полковой разведчик, сказывал мне, как в войну поступали с немецкими «языками», уже давшими показания, ради которых их тащили в штаб через минные поля и колючие проволоки. Понятно, говорит, что дорога им - к стенке, куда ж их? Но сначала, говорит, накормим от пуза. А иногда и курнуть дадим. (Пояснение: обед – он из общего котла, а табаком надо делиться из личного солдатского пайка, небезразмерного, оттого и – «иногда»). Надо понимать, что и «язык» отходил (к стенке), облизываясь, сытый благодаря народному гуманизму.
Хотите верьте, хотите – нет, но отчество разведчику Николаю Гусеву было - Герасимович.
Чистое совпадение, конечно.
Где ключ от каморки Герасима? Где ключ от тайны Герасима: зачем же он всё-таки утопил Муму? Если немедленно после убийства сбежал от «причудливой старухи» - почему было не сбежать с собачкой под мышкой?
Этот валун приехал сюда на Великом Леднике и был старше Ледника. Молодые льды истаяли, а валун остался жить. Тёплыми днями ему снилось, как чешуйчатые вспугивают чешуекрылых с чешуистых деревьев. Особенно когда ящерка прижималась к его горячим шероховатостям, чтобы прогреться впрок, на завтрашний пасмурный день.
Я тяну к ящерке руку. Тяну так, чтобы она не отразилась в её древнем карем глазе, который вылущился из чешуйчатой кожи и уже отразил пару травинок.
Полупрозрачным веком ящерка смаргивает травинки – и тут же исчезает сама, оставляя в моей руке только свой хвост, беззвучно отделившийся. Он ещё упруг, но немедленно увядает в моих пальцах – тёплый, но неживой.
Где ящерка - под камнем? В резных зарослях гусиной лапки?
Какая тебе разница… На свободе она, вот где.
Рос я среди трудящихся мещан - мещан и по месту проживания, и по духу. К тому времени мещане уже стали и.о. пролетариата - того, хрестоматийного, времён РСДРП. И зачастую – и.о. интеллигенции. Что, наверное, и догадало соввласть косноязычно провозгласить образование «новой исторической общности», то есть «советского народа». Дескать, разницы-то всё равно нет…
Все мещане имели в каком-либо колене крестьянских предков, иногда – и крепостных. Узнав и крестьян, я смог оценить, далеко ли яблочко падает от яблони.
Оказалось, что другого народа действительно нет.
И у каждого «представителя народа» висел на поясе ключ от Герасимова замка.
Люди добрые показали личным примером: как народ понимает истинную свободу.
Полюбил «искусную и учёную» прачку, до того полюбил, что подарил ей прянишного петушка с сусальным золотом, а прачку отняли. Полюбил пятнистую собачку – и собачку нельзя. Так пропади она пропадом – всякая привязанность вообще!
«Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком».
И всё это Герасим отбросил – как ящерица… хвостик.
Знакома мне была женщина, потерявшая взрослую дочь. Следом она порвала со своими и её друзьями, искренне ей сочувствовавшими. Так поступают обычно с носильными вещами умерших: выносят к мусорному баку «Почему?» - спрашивали у меня её вынесенные друзья. «А посмотрите, - уклонялся я от прямого ответа, - она не только вас отставила, она и кошку отдала в хорошие руки».
Терять – так всё, и тогда обретёшь свободу.
Стало быть, оказалась эта народная «свобода» - свободой непременно от чего-то, а не для чего-то.
А чего ждать от человека, которому даже вкус редкого прянишного петушка знаком лучше, чем вкус свободы, которую на базаре не купишь?
А ещё – ещё волк в капкане, сказывают, отгрызает себе порою невезучую лапу.
Это преподносится как следствие неукротимой – природной – тяги к свободе и жизни.
Почему-то не берётся во внимание, что трёхлапому волку на свободе суждена недолгая жизнь и скорая смерть.
- Садитесь, садитесь. То есть пока присаживайтесь. Чайку морковного не желаете? А закурить? А теперь отвечайте. Вы – народ, говорите? Ну-ну. То есть вот какой вы весь из себя… А ну, в глаза мне смотреть! Значит, терпишь-терпишь нестерпимое, а потом – рраз, и рубаху до пупа, и прянишного петушка – каблуком, и - режь последний огурец? И барышню – штыком, училку – дубьём, красного петуха - соседу, икону вдребезги, в брата единоутробного, но инакомыслящего - из винтореза? Отбросил самое нежное - хвостик свой - за ненадобностью? Идеи всякие прекраснодушные, уважение к старости и образованности, уважение к живому – от всего отрёкся? Ну-ка, как на духу: утопил собачку, а? В глаза, говорю! Над Серой Шейкой плакал, нет? Ах ты, зараза… Я и сам, может, такой же Герасим, только держусь - двумя руками себя удерживаю…
Нас учили перед народом и народностью преклоняться и заискивать. А что-то не получалось.
Совершенно антисоветским писателем нечаянно оказался тишайший Иван Сергеевич.
Это мы тогда ещё до Александра Ивановича, до Герцена, не добрались – не до того, которого разбудили и он взялся, с просыпу всклокоченный, будить других, а того, который напророчил, что «социализм разовьётся до нелепостей», после чего «снова вырвется из груди меньшинства крик отрицания», и тогда «социализм будет побеждён грядущею, неизвестною нам революцией».
Да, он и должен был развиться до нелепостей - строй, основанный нелепыми Герасимами, свою нелепую, ни для чего не предназначенную, свободу купившими ценою жизни смиренных собачек.
Социализма уж нет, а Герасим - всё таков же.