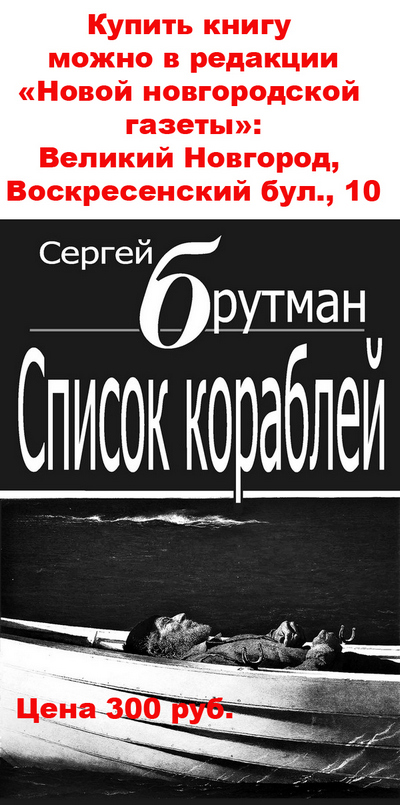Воскресное чтение: Отравленные жимолостью

Лет мне было семнадцать, и даже не помню, как я решился подсунуть старшим коллегам недавно написанный мною рассказ и какой нашёл для этого повод.
Не то чтобы я гордился этими несколькими машинописными листочками – нет, конечно, я понимал: всё, что мной написано и будет написано вот-вот, есть только учёба, повторение чужих стилистических открытий, взволновавших меня. Но понимал я и то, что писать лишь для себя – противно Природе, в которой даже городская трава не удерживает созревшее семя, а даёт ему упасть, пусть и на неплодородный асфальт.
Перевернув и отложив последний листок, Лариса спросила: «Прямо как у Фолкнера?».
Её интонация не выдавала ни одобрения, ни осуждения.
«Ну, Фолкнера-то я не люблю», - буркнул я, которого старшие держали за чрезвычайно начитанного юношу.
Ну, как я мог любить Фолкнера?
А как я мог его не любить?
Я вообще его не читал.
Пришлось пойти в библиотеку.
Всякой книге – своё место.
Читать Диккенса слаще всего – за неимением сверчка и камина – на кухне, под колыбельный гуд газовой горелки и попыхивание чайника. Пруста – в саду, в гамаке. Стивенсона – на прибрежном песке.
Никогда так хорошо не читался мне Фолкнер, как однажды на маленькой железнодорожной станции.
Денег на мягкое кресло в вечернем автобусе мне не хватило – только на жёсткий утренний поезд да на пирог с капустой в привокзальном буфете, пропахшем жигулёвской кислятиной; пирог стряпали без любви, изнутри он был так сыр, что из-под белых капустных жил выскочил живой, не тронутый жаром таракан и побежал по деревянной скамье с резными буквами МПС на высокой спинке, оскальзываясь на местах, отполированных пассажирскими терпеливыми задами; но и заменить пирог было уже нельзя – буфет закрылся рано, в таких местечках ночь наступает раньше, чем в городах, жёлтый свет в окнах сменяется голубым, а потом и он гаснет - дружно, когда единственный в глубинке тех лет телеканал иссякает, - разом, будто кто накрыл посёлок колпачком, каким гасят свечи, и только дымок ещё струится со свечи: горьковатый печной дымок.
 Я выходил покурить в привокзальный скверик. В пятне света от единственного на округу фонаря нас было двое – я и гипсовая колхозница, обернувшаяся на посёлок и захолодевшая в ужасе соляным столпом, как жена Лота, и белы были от света и холода последние листья акаций и волчьей ягоды, и я возвращался в зал ожидания, чтобы напиться алюминиевой воды из кружки, каторжно прикованной к баку, и с разрешения дежурной подбросить полешко в печь, и прижаться плечом к мятому боку печи, отщипнуть от вкусной верхней корочки пирога, перевернуть страницу и почувствовать запах жимолости, источаемый романом ШУМ И ЯРОСТЬ, - должно быть, сладкий и ядовитый запах.
Я выходил покурить в привокзальный скверик. В пятне света от единственного на округу фонаря нас было двое – я и гипсовая колхозница, обернувшаяся на посёлок и захолодевшая в ужасе соляным столпом, как жена Лота, и белы были от света и холода последние листья акаций и волчьей ягоды, и я возвращался в зал ожидания, чтобы напиться алюминиевой воды из кружки, каторжно прикованной к баку, и с разрешения дежурной подбросить полешко в печь, и прижаться плечом к мятому боку печи, отщипнуть от вкусной верхней корочки пирога, перевернуть страницу и почувствовать запах жимолости, источаемый романом ШУМ И ЯРОСТЬ, - должно быть, сладкий и ядовитый запах.
Иногда ночное небо разверзалось, и громкий, хриплый голос о чём-то неразборчиво распоряжался – голос диспетчера или Бога – и ему отвечали то печально, то бодро паровозные гудки; путевые обходчики побрякивали металлом о металл; трогаясь, вагонные сцепки ударяли в надтреснутые литавры; и снова вступал хриплый и неразборчивый… диксиленд на огромной сцене, в горьком угольном дыму; спиричуэлс, то ли негритянский, то ли русский, лет май пипл гоу, и небесному солисту с золотою трубою в руке видно было сверху, как плыли яркие – зелёные, красные, змеясь по узким лезвиям, исполосовавшим всю нашу землю, от станции Лычково Демянского района до станции Джефферсон в Йокнапатофе.
 Я и понятия тогда не имел, что волчьи ягоды – это и есть загадочная жимолость города Джефферсон (округ Йокнапатофа, Миссисипи).
Я и понятия тогда не имел, что волчьи ягоды – это и есть загадочная жимолость города Джефферсон (округ Йокнапатофа, Миссисипи).
Впрочем, в семействе жимолостей – 200 видов, включая бузину и калину, а в Йокнапатофе мог расти вид, нам вовсе неведомый. Но пронзительный запах бузины, которою русские города десятилетиями прикрывали военные шрамы, нам с вами хорошо знаком, да и от самого слова жимолость тревожно сжимается сердце.
Рельсы сходились, скрещивались и снова разбегались, как судьбы в книге, которую я листал. Рельсы были бесконечны, как фразы, пронизывавшие по нескольку страниц кряду. (Возможно, это и имела в виду Лариса…).
Однажды Фолкнер сказал, что Хемингуэю не хватает смелости. Хэм обиделся и стал искать свидетелей, которые подтвердили бы, как храбро он воевал. А Фолкнер имел в виду другую смелость: смелость казаться плохим писателем, смелость обладать стилем, отстоящим от «высокого искусства» так же далеко, как хлев и рига отстоят от художественного салона, как неправильный, безумный стиль Достоевского – от стиля Боборыкина. Фолкнер не боялся громоздить прилагательные и повторять одни и те же глаголы, не стеснялся прямо называть понятия, которые, с точки зрения «хорошей  литературы», следовало раскрыть через метафоры – например, «доблесть», «честь», «отчаяние». Так земля не думает стесняться того, что на ней произрастает – ни пшеницы, ни почечуй-травы, ни чертополоха.
литературы», следовало раскрыть через метафоры – например, «доблесть», «честь», «отчаяние». Так земля не думает стесняться того, что на ней произрастает – ни пшеницы, ни почечуй-травы, ни чертополоха.
Рекорд Фолкнера – четыре, кажется, страницы без единой точки: он как никто другой понимал, что любая точка – это конец пути, и боялся остановиться, потому что не всё ещё сам понял и не всё мне объяснил. Большинство писателей предъявляют нам конечный итог своих мук или хотят предъявить, не сознавая, что итог – всего лишь точка или одно какое-нибудь слово: честь, или мужество, или доблесть, и Книга Итогов может состоять из одной только обложки с Главным Словом, тексты ей ни к чему. А тексты Фолкнера – это депо, где встречаются рельсы, это мастерская, здесь надо работать вместе с ним. Он словно правил свои же фразы, оставляя читателю все варианты, а позже переписывал и сюжеты, издавая одни и те же истории в разных ракурсах. От этого книги делались только лучше – переставали быть литературой, становясь самой жизнью, которая не ведает, что такое точка, обобщение и итог.
«Поплыли яркие» – так осознавал окружающее идиот Бенджи из «Шума и ярости». Все мы – более или менее идиоты. Но должен найтись кто-то, кто заставит нас в шуме и ярости разобрать наконец неразборчивое, понять непонятое, проникнуть в непроницаемое – в чужую душу. Или хотя бы в свою.
Фолкнер умел быть и идиотом, и толмачом, и только поэтому ему дано было обращаться к таинственному Ночному диспетчеру с мольбой-приказанием: лет май пипл гоу! отпусти мой народ! освободи его от рабства! дай ему всё, чего он достоин, - право жить или погибнуть по собственному выбору.
 Тем, кто не хочет трудиться вместе с ним, Фолкнер оставил краткую и точную формулу, в которую сжимаются все его бесконечные фразы. «Я отказываюсь поверить в конец человека… Я верю, что человек не только всё вытерпит – он победит. Человек бессмертен, но не потому, что лишь ему из всех тварей земных достался неистощимый голос, а потому, что он наделён душой, духом, способным сострадать, жертвовать и терпеть». Он сказал это в 50-м, при вручении Нобелевской премии. Но сам не считал эту речь точкой – он писал ещё 12 лет, по-прежнему отказываясь считать себя писателем, повторяя «Я – фермер» и в доказательство коптя окорока в собственном деревенском доме.
Тем, кто не хочет трудиться вместе с ним, Фолкнер оставил краткую и точную формулу, в которую сжимаются все его бесконечные фразы. «Я отказываюсь поверить в конец человека… Я верю, что человек не только всё вытерпит – он победит. Человек бессмертен, но не потому, что лишь ему из всех тварей земных достался неистощимый голос, а потому, что он наделён душой, духом, способным сострадать, жертвовать и терпеть». Он сказал это в 50-м, при вручении Нобелевской премии. Но сам не считал эту речь точкой – он писал ещё 12 лет, по-прежнему отказываясь считать себя писателем, повторяя «Я – фермер» и в доказательство коптя окорока в собственном деревенском доме.
Вера в победу была рождена поражением. Это поражение неродившемуся ещё Фолкнеру нанесли в Гражданской войне, совсем не похожей на нашу.
Это была война даже не за власть. Наверняка на Юге многие понимали, что историческая правота – за Севером. И отстаивали не столько рабовладение, сколько право самим выбирать себе моральные ценности – без оглядки на технический прогресс и экономическую целесообразность. Это была война принципов.
Победители не уничтожили проигравших: Америка удержалась от самоубийства. И спустя годы для Фолкнера южане – всё те же НЕПОБЕЖДЁННЫЕ. Да и враги-северяне тоже. Люди высоких страстей; люди, чьи флаги в пыли и чья душа закалена этим трагическим зрелищем. Поражение превращает их гордость – в гордыню. И вооружает терпением – единственным, что помогает сберечь на историческом ветру пламя памяти и верности.
Верности даже не флагам в пыли – а себе.
Из российской школьной программы по литературе, ей-богу, стоит что-нибудь выбросить, чтобы поместить туда небольшой рассказ Фолкнера «Высокие люди». Когда правительство сочло, что выгоднее платить фермерам «алименты», чтобы избежать перепроизводства, семейство «высоких людей» упрямо, год за годом, продолжало сеять хлопок, который уже не могло продать, гноило его в амбаре и снова сеяло, лишь бы не брать ничего от государства – не зависеть от него ни в чём, а зависеть – как предками завещано – от солнышка, от дождичка да от собственных сил. Как и другие герои Фолкнера, эти люди не выльют наземь ни капли из чаши, какой бы горечи ни нацедила туда судьба. Они ни о чём не будут просить – ни соседа, ни Президента, ни самого Ночного Диспетчера.
Вот этой стойкости, этой высоты лишили когда-то многих из нас.
Ампутация случилась так давно, что пора бы забыть о потере, а культя всё ещё почему-то саднит – даже у детей, даже у внуков.
Может, и не у всех. Но у читающих Фолкнера – точно.
 Там, где честь сходится в битве с честью же, а не с подлостью, терпение оказывается не худшим оружием.
Там, где честь сходится в битве с честью же, а не с подлостью, терпение оказывается не худшим оружием.
В «НЕПОБЕЖДЁННЫХ» сын обязан отомстить за убитого отца. Но наследник местного аристократического рода считает: крови уже хватит. И входит в кабинет вооружённого убийцы безоружным. «Достань же пистолет. Я жду», - говорит соперник, и, не дождавшись, стреляет сам – стреляет дважды. Но есть сила – не свыше, а в нём самом – которая не даёт попасть в безоружного. Он надевает шляпу, выходит, без вещей садится в поезд и навсегда покидает родной город.
Это неправильная победа.
«Маленькая гадина» Минк Сноупс приходит в «ОСОБНЯК» посчитаться со своим родственником, большим – самым большим во всём фолкнеровском эпосе – гадом Флемом Сноупсом. Маленькая, иссушенная каторгой гадина смогла купить только ржавую железку, мало похожую на пистолет, и несколько патронов, и железка, разумеется, даёт осечку. Но большая гадина, вместо того, чтобы скрутить маленькую и отнять пистолет, спокойно ждёт, когда враг перезарядит и всё-таки попадёт. Потому что большая гадина, уже достигшая почти всего, чего может достичь гадина в мире гадов, устала носить в себе столько яда.
Это неправильная смерть.
Но это – красивая победа и красивая смерть. Потому что человек – по Фолкнеру – существо красивое.
Помните, как это бывает? Сделал шаг – промялось под ногой и вспучилось впереди, и пошла зелёная волна, побежала, кажется, до самого края болота, где редкие сосны да ёлки - кривые, мускулистые, упорные - будто бы закачались на этой волне… А что – может быть: и мхи, и травы, и сосны, и ёлки – все они повязаны сплетёнными намертво жилами корней… А под ними – лучше не думать – чёрные воды, холодные глубины… голову покруживает.
По текстам Фолкнера продвигаешься, как по мшищу.
 Как Хемингуэй боялся прослыть плохим солдатом, так Фолкнер цеплялся за свои корни.
Как Хемингуэй боялся прослыть плохим солдатом, так Фолкнер цеплялся за свои корни.
Тонкие усики делали его похожим на хлыща; служить ему надо было непременно в авиации и всю жизнь совершать верховые прогулки. В 62-м он упал с лошади, полгода лечился, снова сел на лошадь, снова упал и через неделю умер – жертва упрямого следования комильфо миссисипской аристократии, сельской аристократии, которая отличается от соседей тем, что общенациональные бобы ест на фамильных фарфоре и серебре.
Но можно посмотреть на его портрет и иначе, и тогда придётся преклонить колено перед человеком, который понимает, что аристократизм – это не герб, а верность правилу, и аристократ - это человек, который после бобов не портит воздуха, даже когда нет свидетелей, и, значит, «Высокие люди» – не менее аристократы, чем юный Сарторис, оставивший дома пистолет.
С каждого из нас можно написать два портрета. Или больше.
Маленькая гадина из «ГОРОДА» спустя годы была понята писателем по-другому, и в «ОСОБНЯКЕ» стала фигурой трагической – памятником терпению и ожиданию. Автор, вспомнив о своих божественных правах – и таких же высоких обязанностях – вернул персонажу право быть понятым.
На пространствах вымышленной Йокнапатофы нет идеальных негодяев. Мироед Сноупс – всего лишь импотент, бесплодно провёдший лучшие годы возле лучшей из женщин. Тиран и подлец Джейсон Компсон – всего лишь мальчик, оставленный близкими без наследства и без перспектив, потерявшийся мальчик, вылавливающий монетки в грязи. Зло ниоткуда не приходит, путь к Армагеддону короток: здесь и сейчас, в тебе самом.
Мы же договорились извлекать из каждой книжки по-школьному незамысловатый урок. Урок Фолкнера таков: «Все мы несчастные сукины дети».
И ещё: «сильный – живёт, а кто невыносимо мучается своим бессильем – берётся за перо».
Ни один другой писатель не признавался в такой постыдной, такой человечной слабости. Хемингуэю ведь и правда не хватило личной храбрости, чтобы признаться в этом…
 Но тот, кто берётся за перо – тот становится творцом. Сам Бог, выходит, мучился бессильем, если взялся за акт творения. Да и то осторожно населил Землю для начала лишь парой тварей с неистощимым голосом. А Фолкнер населил свой болотистый, холмистый, поросший соснами Эдем сразу пятнадцатью с половиной тысячами человек, судьбы которых сплелись, как сплетаются во мшище молчаливые белые жилы мхов и трав, и на каждого хватило у него сострадания, и терпения, и понимания, и восторга, и с тех пор Бог представляется мне не долгобородым старцем, а худощавым и мускулистым фермером, в метр шестьдесят пять ростом, с «маленькими руками прекрасной формы» - отнюдь не фермерскими - и усами, лишь к старости утратившими излишнюю щеголеватость; сочинителем наших радостей и бед, Ночным Диспетчером, хриплым солистом диксиленда живых и мёртвых музыкантов, который видел и меня - в бесприютной ночи прижавшегося к мятому боку вокзальной печки, с хлебом в одной руке и книгой в другой, и плакал обо мне, и гордился мною.
Но тот, кто берётся за перо – тот становится творцом. Сам Бог, выходит, мучился бессильем, если взялся за акт творения. Да и то осторожно населил Землю для начала лишь парой тварей с неистощимым голосом. А Фолкнер населил свой болотистый, холмистый, поросший соснами Эдем сразу пятнадцатью с половиной тысячами человек, судьбы которых сплелись, как сплетаются во мшище молчаливые белые жилы мхов и трав, и на каждого хватило у него сострадания, и терпения, и понимания, и восторга, и с тех пор Бог представляется мне не долгобородым старцем, а худощавым и мускулистым фермером, в метр шестьдесят пять ростом, с «маленькими руками прекрасной формы» - отнюдь не фермерскими - и усами, лишь к старости утратившими излишнюю щеголеватость; сочинителем наших радостей и бед, Ночным Диспетчером, хриплым солистом диксиленда живых и мёртвых музыкантов, который видел и меня - в бесприютной ночи прижавшегося к мятому боку вокзальной печки, с хлебом в одной руке и книгой в другой, и плакал обо мне, и гордился мною.
В следующий раз я хотел бы родиться в Йокнапатофе - своим любимым фолкнеровским героем, не аристократом и не богачом, американцем с диковинным для Миссисипи великокняжеским именем Владимир Кириллович, и колесить по сосновому Эдему на самодельном фургончике, пить в ваших домах кофе из мятых кофейников, и удивляться вашим рассказам и удивлять своими, и брать на сохранение ваши тайны, нежные и грубые, и любить всех вас – несчастных сукиных детей… таких же, собственно, как я сам.
Сергей БРУТМАН