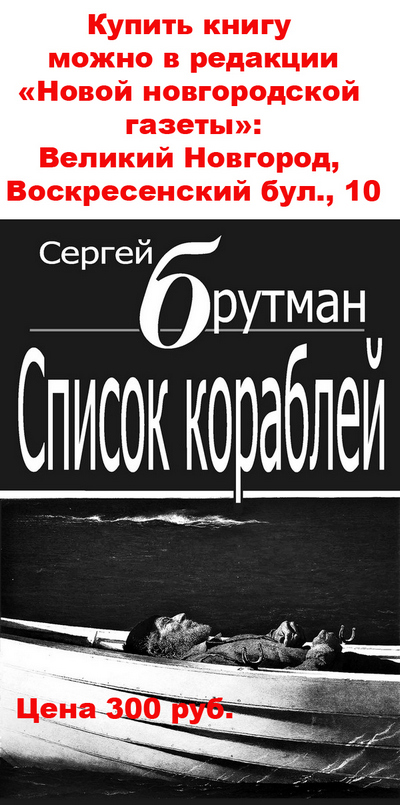Вечно мёртвый

Большинство россиян, 60% опрошенных, при ответе на вопрос о том, как следует поступить с телом Ленина, согласились с тем, что его необходимо предать земле: 36% выступают за скорейшее перезахоронение на кладбище, 24% предлагают сделать это, «когда уйдет поколение, для которого он дорог». О том, что нужно оставить тело В.Ленина в Мавзолее, заявили 32% участников опроса, проведенного 30-31 января среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах РФ, сообщил ВЦИОМ по итогам социологических исследований.
Вместе с тем две трети респондентов (65%) признают, что Ленин в своих действиях исходил из интересов большинства граждан, обратного мнения придерживаются только 23%. Симпатизируют ему как человеку 63% опрошенных, неприязнь он вызывает у 24%.
Бабушка запрещала мне бояться мёртвых. Говорила: «Их бояться - уже поздно, живых бойся».
Может быть, говоря со мною об этом, она прикидывала на меня - и на себя - свою смерть, как прикидывают в магазине новое платье: мерить или не стоит.
Впрочем, бабушку я неживой и не увидел. Её хоронили без меня.
Зато спустя годы, когда я сидел, не зажигая света, в холодной комнате, и ждал сначала милицейского дознавателя, а потом машину, которую называют так грубо, что повторять неохота, и всё взглядывал в угол, где в сумерках темнела на диване небольшая такая тряпичная горка, - я ничуть не боялся. Я только повторял про себя глупую и, наверное, театральную фразу: «вот и всё… вот и всё», ни о чём вообще не думая, не чувствуя ни отчаянья, ни облегчения, ни времени… пока не заметил - по пепельнице - сколько уже выкурил... выкурил в материнском доме, где курить никогда не разрешалось, выкурил безнаказанно… и вот тогда понял, что - да, всё… бояться больше нечего, бояться - поздно: страшное приходило и ушло, остаётся - неприятное и необходимое.
Мёртвого я испугался, ослушавшись бабушку, лишь однажды: пионером, в Мавзолее.
Мавзолей для пионерской экскурсии из глубинки был обязателен, как и ГУМ.
В ГУМ страстно хотелось учительницам: там кримплен, и копчёный угорь, и иноземные зелья для лица.
А посещение Мавзолея они, очевидно, считали расплатой, очищением от плотского греха, который позже назовут шоппингом.
Тем более что за отпущением грехов идти было недалеко – через площадь.
Идти-то недалеко, да стоять – долго.
Без волнения, которое испытывали стоящие за колбасой, за кримпленом, за билетом на поезд... за всем, чего должно было на всех не хватить – потомкам не понять, насколько счастлив был советский человек: не всякий, а тот, которому хватило.
Очередь на Красной площади была особой. В ней отсутствовала привычная поэзия: государство гарантировало, что того, за чем стояли здесь, хватит всем, поголовно. Все пройдут в чёрный проём между двумя стражами в шинелях, на которых не тают крупные снежинки. Требуется только рутинное терпение.
Алёшка был младше, ему не терпелось. Он пританцовывал и канючил:
- Ветланванна, я писять хочу.
На самом деле такого слова нет. Надо говорить – «писать». Или уж прямо – «ссать». Писять - это всплеск мещанской деликатности.
Алёшка понимал важность места и момента. А вот Алёшку понимать не хотели. Впереди нас терпели негры в ушанках, похожие на шоколадных зайцев из ГУМа, позади – борющиеся вьетнамцы, чуть больше Алёшки росточком, и Светлана Ивановна делала Алёшке страшные глаза.
При виде предмета в пиджаке и галстуке, плавающего в беспощадном электрическом свете, я вспомнил Кунсткамеру и заспиртованных уродцев.
Но уродцы хотя бы прятались в таинственной зеленоватой глуби формалина, и блики, скользя по крутым бокам банок, милосердно слепили глаза. На уродцах не было пиджаков и галстуков - они не прикидывались настоящими людьми, а оставались неудачно, но прихотливо слепленными комками материи, частью природы, вроде гриба о двух шляпках. И не выхвалялись искусством, с каким их навеки сохранили впрок, будто солёные огурцы.
К тому же они и не жили никогда, не плакали, не любили. Наверное, и не страдали - не успели. Их было поэтому жалко.
А мумию я возненавидел с первого взгляда.
Зачем они освежевали, выпотрошили своего Ленина?
Когда за матерью приехала грубая машина, Харон в грязном свитере выругал меня за то, что я звонил в милицию: «Она же болела небось, всё естественно. А теперь повезём её в судмедэкспертизу. Сделают вскрытие. Вам это надо? Нет, если хотите, мы ещё можем по-человечески...»
И я дал ему денег, чтобы он увёз её в нормальный морг. Мы вступили в противозаконную сделку, чтобы всё было по-человечески.
 Много-много лет спустя, за пивом, Лёха сознался, что терпение его окончательно лопнуло лишь в Мавзолее – при виде нечеловеческого спокойствия фигуры за стеклом.
Много-много лет спустя, за пивом, Лёха сознался, что терпение его окончательно лопнуло лишь в Мавзолее – при виде нечеловеческого спокойствия фигуры за стеклом.
Глядя на него, человечек Алёшка наконец описялся.
Тьфу ты... обоссался, конечно.
В перестройку я сцепился с одним коротышкой, мелким начальником, перестройку ненавидевшим. Процитировал ему Ленина. По лицу было видно: этого он не читал. «Ну и что? - сказал он, привставая на носочки. - Ленин тоже ошибался».
Цитата была из Ленина позднего. Так сказать, Ленина III.
Первый устроил партию, второй - гражданскую бойню, третий увидел, что построил, - и ужаснулся.
Ленин оказался не нужен никому. Ни коммунистам, ни нам.
Интеллигенция обрадовалась возможности вышвырнуть его из истории - не мумию, а живого. Забыв, что тот, кто не хочет Ленина, - получит Сталина, выбор невелик.
Ленину не хватало культуры.
Только не напоминайте мне про «Апассионату». Это музыка доступная, как нынешняя попса. И «любимый писатель Ленина» Джек Лондон - детский, попсовый писатель.
Он был плоховато образован. Экстерн, что с него возьмёшь. Это даже плоше заочного обучения. Заочник хоть дважды в год может побеседовать с профессором, а экстерн Ульянов вовсе лишён был общения с носителями калош, пенсне и гуманизма. Вот он и убедил себя, что виноград - зелен, что гуманизм - столь же необязателен, как пенсне и калоши, а интеллигенция - «говно».
Бердяев и Сахаров, любимцы интеллигенции, усматривали, однако, в деятельности Ленина начальный нравственный посыл.
Можете ли вы разглядеть нравственный посыл в нынешних разнообразных Грызловых?
Ленин III руководил уже не собственно партией, а правительством, конкретные дела стали для него важнее лозунгов. Тут он и увидел созданные им комбеды в действии, и понял, как разрушительна идея комбедов, как страшна гордость нищих своею нищетою.
Коротышка был наследником комбедов по прямой линии, и, щадя его чувства, я не стал цитировать те страницы, на которых Ленин ругательски ругал коммунистов. Никто, пожалуй, не честил их так остервенело: «коммунистической сволочью» и даже «комговном».
Думаю, он стервенел, потому что знал: Голем вылеплен (выходит, не из праха даже, а из этого самого) и выпущен в мир им самим, так что жаловаться не на кого.
«Комговно» издевалось над своим Создателем в последние дни его жизни, ненавидя его и боясь, и желало ему если не смерти, то растительного существования.
 И когда он умер, оно выпотрошило тело и дело Ленина, и превратило его в кусок госсобственности, и стало держать его в стеклянной коробке, на виду, чтобы быть уверенным, что он, наконец, мёртв, мертвее статуи, мертвее всех мёртвых, на века… что он не вернётся, как возвращаются к нам иногда тени тех, кого мы спрятали в землю и не видим - что они теперь и где.
И когда он умер, оно выпотрошило тело и дело Ленина, и превратило его в кусок госсобственности, и стало держать его в стеклянной коробке, на виду, чтобы быть уверенным, что он, наконец, мёртв, мертвее статуи, мертвее всех мёртвых, на века… что он не вернётся, как возвращаются к нам иногда тени тех, кого мы спрятали в землю и не видим - что они теперь и где.
Когда умерла моя мать, тоже был январь и стояли крещенские морозы, но на дне ямы тепло желтела глина. Я стоял без шапки, не чувствуя холода. И только когда стал её надевать, обжёгся о снег, не растаявший на волосах.
Вот и всё.
Теперь я прихожу к её холмику, окашиваю на нём осот, но этот холмик никак не связан для меня с моей мамой: я не совсем уверен, что она - там; я не знаю, где она и что она, и не уверен даже, насколько она мертва.
А Ленин - на стеклянном прилавке Мавзолея - навеки мёртв. Это точно: мы с Алёшкой сами видели.