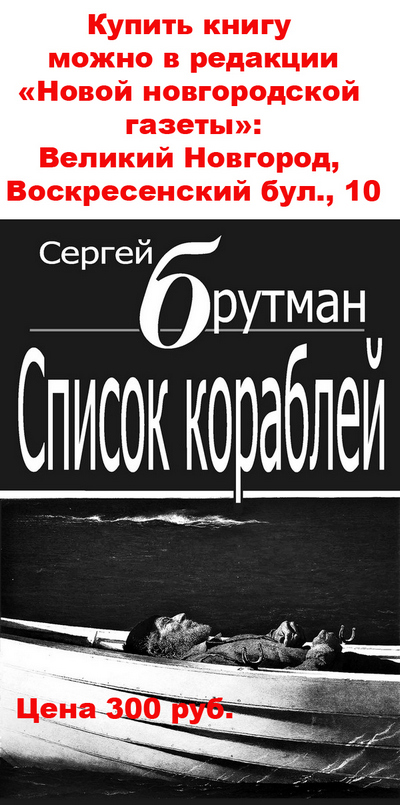Галопом по европам: Дошёл до Берлина

Мой дед, кадровый офицер, прошёл всю войну, но до Берлина не дошёл. И его зять, мой отец, тоже кадровый офицер, прошёл всю войну, но до Берлина не дошёл. Я бывал в Германии не раз, но и мой путь ни разу не лежал через её столицу. Наконец я решил исправить этот недочёт семейной истории: дойти-таки до Берлина.
Нибиру и футбол
 Знаменитая телебашня на Александерплац, знакомая моему поколению как непременный декор «западной витрины социализма», закуталась в дымку. Серебристый шар башни, с которого низкая облачность срезала полосатую антенну, казался спускающейся из облаков планетой-пришельцем: Нибиру там, Немезидой… Или мячом, взлетевшим над Землёй: шло первенство мира, у немцев была надежда догнать бразильцев по числу чемпионств, на улицах торговали футболками сборной, многоэтажные футболисты с суровыми нордическими (даже у турка Озила) ликами нависали над прохожими, так что аналогия была неизбежна.
Знаменитая телебашня на Александерплац, знакомая моему поколению как непременный декор «западной витрины социализма», закуталась в дымку. Серебристый шар башни, с которого низкая облачность срезала полосатую антенну, казался спускающейся из облаков планетой-пришельцем: Нибиру там, Немезидой… Или мячом, взлетевшим над Землёй: шло первенство мира, у немцев была надежда догнать бразильцев по числу чемпионств, на улицах торговали футболками сборной, многоэтажные футболисты с суровыми нордическими (даже у турка Озила) ликами нависали над прохожими, так что аналогия была неизбежна.
Надежда, как мы уже знаем, потом погасла, как звезда Немезида, и разочарование легло на Германию, подобно тени грозной Нибиру, но мы - не о футболе.
Возле Остбанхофа, в прошлом – главного вокзала ГДР - благонамеренные граждане давали полиции показания о драке между качком в тяжёлых башмаках и нечёсаным маргиналом (кто взял верх – понятно). Бродяги и пьяницы устраивались на ночлег под виадуком. Над виадуком строители-сербы в фирменных спецовках, пошабашив с возведением очередной высотки, расходились по своим «опелям» и «фольсксвагенам». Ветер гонял по бывшей «витрине социализма» мусор.
В целом тут было серо и неприютно: самое то, чтобы сочинить какую-нибудь пошлость про «город контрастов». Но ни мусором, ни бродягами, ни гастарбайтерами нас нынче не удивишь, свои имеются, в любой стране большой полис – скопище контрастов: человеческого труда и человеческого сора.
Однако в пошлости есть и своя прелесть. Если у тебя мало времени, осмотри хотя бы самые обычные, самые исхоженные места: сверь свои впечатления с чужими, тебе внушёнными. Мне надо было увидеть в Берлине три таких места.
Парящий в облаках шар указывал направление.
Золото под липами
О Берлине мирном нам известно с детства, что там имеется Унтер-ден-Линден. Одно из лучших, на мой вкус, имён для улиц: просто «Под липами». Хотел бы я жить в городе, где были бы, помимо всяких героев, простые «Под рябинами», «Под клёнами», «Под берёзами»...


Липы высадили на этом бульваре в 1647 году. Понятно, что в их строю должны были за эти века появиться новые бойцы – вместо выстарившихся или погибших в боях 45-го. Но никому не приходило в голову снести раненые деревья или превратить их в телеграфные столбы, как в нашей Старой Руссе. Под ними по-прежнему ерошатся золотистые кучи опадающих соцветий.
Унтер-ден-Линден считается роскошной, что-то вроде городской визитной карточки с золотым тиснением, а липы – часть этой роскоши.
«Не знаю более величественного вида, чем тот, который открывается с моста в сторону «лип»; одно роскошное здание теснит здесь другое», - писал Генрих Гейне.
Если без поэтической восторженности, то роскошь эта – скорее кондитерская. Этакие каменные торты с завитушками из серого крема. И с карамельной фигурой конного императора.
Как я понимаю, под мостом Гейне имел в виду Шлосбрюкке - Дворцовый. Мост имеет вид тоже имперский – из-за статуй, простирающих крылья и размахивающих оружием. В войну их, спасая от бомбёжек, немцы вывезли из столицы. В Берлине разделённом мост достался коммунистам и получил имя Маркса и Энгельса (уже смешно, если вспомнить, что первоначально он вообще назывался Собачьим). В 80-е в рамках культурного обмена между двумя Германиями Запад вернул изваяния Востоку. «Основоположники», осенённые фигурами, которые символизируют торжество империи, - тоже забавно. Даже назвать Аничков мост, на котором атлеты укрощают дюжих коней, именем Ленина было бы не настолько потешно. (Кстати, знаете ли вы, что решётка Аничкова моста повторяет рисунок решётки на Шлосбрюкке?).
Немцам, по-моему, вообще не хватает чувства юмора.
Зато у них есть другие чувства, достойные уважения.
Встреча Немезиды с другой звездой
Уже отсюда, от моста, в небесную панораму вплыл, перекликаясь с шаром на телебашне, голубой купол мавританских очертаний.
Это была синагога.
Облака уже расступились перед солнцем, и в его лучах золотая звезда Давида колола своим блеском глаза. Шестиконечная звезда над имперской роскошью смотрелась парадоксально. Мы же знаем историю Германии – раз уж она так вплелась в нашу собственную, вросла в неё, как врастает в ствол дерева колючая проволока…
В 38-м нацисты не могли не разорить это здание – по определению. Но, между прочим, полиция и пожарная служба Берлина спасли его от гибели в огне. Город уже тогда считал его – архитектурным памятником. Скорее памятником, чем молитвенным домом, остаётся оно и сегодня. Собственно, оно и великовато, пожалуй, для оставшихся в Берлине иудеев. Немцы спасли от огня синагогу – но не своих евреев.
 А здесь, на тенистом бульваре, в виду отдалённой шестиконечной звезды, на траве институтского палисадника, среди мраморных Гумбольдта, Гельмгольца и Моммзена, чернела совершенно не величественная статуя женщины. Напротив неё – столь же не парадный Макс Планк. О Планке российский школьник что-нибудь да слышал, а о Лизе Мейтнер – не обязательно. Между тем она была сотрудницей Планка, радиофизиком, исследователем трансуранов. Именно Лиза первой смогла расщепить атомное ядро и убедить своего коллегу Отто Гана в возможности этого. Ган стал лауреатом Нобелевки, а она нет, хотя они тайно сотрудничали даже после того, как еврейка Лиза из-за аншлюса Австрии была вынуждена бежать из страны, а Ган с его «правильной анкетой» - остался.
А здесь, на тенистом бульваре, в виду отдалённой шестиконечной звезды, на траве институтского палисадника, среди мраморных Гумбольдта, Гельмгольца и Моммзена, чернела совершенно не величественная статуя женщины. Напротив неё – столь же не парадный Макс Планк. О Планке российский школьник что-нибудь да слышал, а о Лизе Мейтнер – не обязательно. Между тем она была сотрудницей Планка, радиофизиком, исследователем трансуранов. Именно Лиза первой смогла расщепить атомное ядро и убедить своего коллегу Отто Гана в возможности этого. Ган стал лауреатом Нобелевки, а она нет, хотя они тайно сотрудничали даже после того, как еврейка Лиза из-за аншлюса Австрии была вынуждена бежать из страны, а Ган с его «правильной анкетой» - остался.
Эта история, однако, не о судьбах еврейки и немца. А о том, что Ган сделал многое для появления атомной бомбы (к нашему счастью, не у тех, на кого работал) и потом очень переживал об этом и участвовал в борьбе против ядерной угрозы миру. А Лиза Мейтнер, едва оказавшись в приютивших её Штатах, сразу отказалась работать в Лос Аламосе, заявив: «Я не буду делать бомбу!». Она видела границу между благодарностью за спасение своей жизни – и готовностью заплатить за это тысячами чужих жизней.
Пьета в караулке
Наверное, вы уже поняли, что Лиза Мейтнер близка мне вовсе не своим происхождением.
Несмотря на фамилию, я не испытываю преувеличенного интереса к еврейской теме. Как я понимаю, и немцы, которых интеллигенция ввела когда-то в состояние национального покаяния, не зацикливаются на ней одной.
 На Унтер-ден-Линден я заглянул в темноту «Нойе вахе». Толк в смысловых рифмах немцы знают: здание бывшей королевской караульни они превратили после Первой мировой в мемориал павшим в той бойне. С тех пор количество людей, о ком надо помнить, только прибывало, увы. Бронзовая мать, оплакивающая погибшего сына в круге света, падающего с потолка, скорбит теперь и о жертвах Второй мировой. И о пожертвовавших жизнью в борьбе с тоталитаризмом. И не только о немцах или евреях – а обо всех народах. О жертвах насилия вообще.
На Унтер-ден-Линден я заглянул в темноту «Нойе вахе». Толк в смысловых рифмах немцы знают: здание бывшей королевской караульни они превратили после Первой мировой в мемориал павшим в той бойне. С тех пор количество людей, о ком надо помнить, только прибывало, увы. Бронзовая мать, оплакивающая погибшего сына в круге света, падающего с потолка, скорбит теперь и о жертвах Второй мировой. И о пожертвовавших жизнью в борьбе с тоталитаризмом. И не только о немцах или евреях – а обо всех народах. О жертвах насилия вообще.
На это здесь не жалеют бронзы. На Фридрихштрассе стоит двойной памятник «Поезда жизни. Поезда смерти»: в память о еврейских детях, которые отсюда отправлялись после «Хрустальной ночи» или в Англию, чтобы жить, или, позже, в лагеря, чтобы умереть. Светлая бронза – и чернёная бронза. Большая группа – и всего двое: доброе королевство требовало иметь при себе «лишние» 50 фунтов стерлингов на обратный билет, а они были не у всех.
Об ужасе разделённости, угнетения, дискриминации – по любым признакам – Берлин напоминает себе и сохраняя будочку контрольно-пропускного пункта «Чарли», стоящую на выстеленной плитами бывшей границе двух Германий, и музеем «Топография террора», и памятными крестами на берегу Шпрее, в волнах которой гибли люди, пытавшиеся сменить один Берлин на другой.

Неприятие всякого насилия, первенствующая ценность человеческой жизни – вот главный урок национального покаяния, которое нам, советско-российским, к сожалению, никак не даётся. Наоборот, мы придумываем сложные идеологические построения, чтобы доказать себе, что нам не в чем и не перед кем каяться. И массово одобряем политиков, которые делают себе карьеру на этом отрицании.
Вот почему нам и не понять основательно миграционной политики Германии. Со странным злорадством наши политиканы из разных лагерей указывают на намечающееся «засилье инородцев» в Европе.
 ТВ – всё же большая сила, способная любому бреду придать форму истины. Возвращаешься из Европы – обязательно расспросят: что, кругом одни негры да арабы, сплошные террористы? Ну да, и чернокожих видел, и мусульман много, а вот террористы… Чтоб вы знали: если в наши аэропорты можно проникнуть только через «рамку», то там – вход свободный, сканируют тебя только перед посадкой. Так что ощущение осаждённой крепости – это не про них, а про нас с вами.
ТВ – всё же большая сила, способная любому бреду придать форму истины. Возвращаешься из Европы – обязательно расспросят: что, кругом одни негры да арабы, сплошные террористы? Ну да, и чернокожих видел, и мусульман много, а вот террористы… Чтоб вы знали: если в наши аэропорты можно проникнуть только через «рамку», то там – вход свободный, сканируют тебя только перед посадкой. Так что ощущение осаждённой крепости – это не про них, а про нас с вами.
Немцев следует понять. У них за плечами – и геноцид других народов, и стрельба в соплеменников во имя идеологических разногласий. И вот, держа в уме «Нойе вахе» и бронзовую Пьету XX века, как можно отвернуться от гонимых и лишаемых права на жизнь, кем бы они ни были?
После XX века только это и может быть главной евроценностью. Трудный путь к этой ценности, тяжесть этого креста – может быть, и являются главным препятствием для готовности наших соотечественников согласится, что Россия – часть Европы.
Терпеть или принять?
Только не подумайте, будто я считаю, что там, в европах, воцарился сплошной мир и в человецех благоволение. Не только из споров политиков (например, главы МВД Германии и канцлера) видно, что, наряду с благородными чувствами, граждане переживают хронический когнитивный диссонанс.
В небольшом немецком городе Ростоке, заслышав русскую речь, подошёл к нам лет 50-60-ти эмигрант с постсоветского пространства. Неизбывна привлекательность родного языка для русскоязычного: поговорить захотелось. Выехал он из Казахстана, как он выразился, «по еврейский линии», 20 лет назад, и, по собственному беззастенчивому признанию, живёт на пособие в 400 евро. Для местного не густо, но не всякий россиянин зарабатывает 30 000 рублей, тем более что жильём эмигрант пользуется бесплатно, все его платежи – это 14 евро в месяц за электричество. И за все эти годы ни дня не работал.
Понятно, что Германия зазывала к себе евреев, прежде всего, в знак извинения за прошлое. Ну и, подозреваю, для того, чтобы они, как это было до «Хрустальной ночи», поработали на могущество страны. Но получили, как видим, не только (не столько) новых Лиз, сколько таких вот захребетников. Будь я немецким налогоплательщиком, мне это не понравилось бы. Заметьте: безотносительно национальности и вероисповедания «гостя». И по национальности, и по вероисповеданию он – тунеядец.
И тут обеим сторонам надо думать: как и что сделать, чтобы титульные налогоплательщики однажды опять что-нибудь не разгромили и не подожгли.
 Ни к чему другому, кажется, российский обыватель и опекающий его российский пропагандист не испытывают такой ненависти, как к толерантности, к которой призывают друг друга европейцы. Слово «толерантность» между тем происходит от латинских «терпения» и «принятия». Должно быть, именно поэтому у термина такая непростая судьба: «принятие» и «терпение» отнюдь не тождественны друг другу.
Ни к чему другому, кажется, российский обыватель и опекающий его российский пропагандист не испытывают такой ненависти, как к толерантности, к которой призывают друг друга европейцы. Слово «толерантность» между тем происходит от латинских «терпения» и «принятия». Должно быть, именно поэтому у термина такая непростая судьба: «принятие» и «терпение» отнюдь не тождественны друг другу.
По шенгенским странам кочуют ромы разного гражданства, но одного и того же известного промысла, и я вижу, что немцы, например, не одобряют ни этого промысла, ни самих цыганских промышленников. Не одобряют, но терпят: нельзя же устраивать гонения на этих кочевников – после того, как их гнал и уничтожал нацизм!
И нечего над этой двойственностью эмоций смеяться. В неё надо вчувствоваться. Ведь ты и сам можешь оказаться неприятным чужаком с непонятным менталитетом. И тебя будут терпеть, пусть и стиснув зубы.
Из самого свежего: немецкой полицией был задержан болельщик, праздновавший победу футбольной сборной России над сборной Испании (и над футболом), разъезжая на авто с триколором и с… АК-47. Естественно, это был русский гражданин Германии. В РФ появление с «калашом» в общественном месте обошлось бы ему, учитывая антитеррористическое законодательство, не дёшево. А немцы просто отобрали у него автомат и отпустили: «он русский, это многое объясняет».
Они – пока терпят.
Есть разница между тем, чтобы терпеть особенности другого человека – и знакомым нам искусством терпеть и принимать любые формы власти над собой.
Качок в шляпке
Бульвар тёк и тёк под ногами.
Сладко пахло липами. Дети ловили мыльные пузыри – в каждом пузыре отражались Бранденбургские ворота.

Мужчины отнюдь не тевтонской внешности торговали с лотков кразнозвёздыми ушанками, пилотками и фуражками.

Глядя на них, выставленные у магазинных дверей разноцветные и расписные медведи с городского герба, как один, поднимали кверху лапы, словно говоря: «Сдаюсь!». Всё обозначало путь к рейхстагу.
У рейхстага толпились всяческие языцы, но большинство, как и всюду, принадлежало неизбежным китайцам. Спрос на рейхстаг таков, что надо записываться заранее, дабы пройти туда (кстати, бесплатно). Языцы так и сделали, и все они попали в рейхстаг, а я - нет. Хотя для человека из России, на мой вкус, это и есть второй обязательный пункт остановки в Берлине.
Да и ладно: зелен виноград - рейхстаг громоздок и мрачен, да ещё и преувеличивает свою громоздкость чересчур глубокой рустовкой стен, похожей на накладные фальшивые пластиковые мышцы. А сверху на здание парламента, раздувающееся от собственного величия, нахлобучена легкомысленная стеклянная шляпка.
Ради этого колпака языцы и рвутся в рейхстаг: пускают-то лишь туда. Там турист справит самую острую нужду современника: сделает селфи.
Расписаться на стекле он не сможет. А наши предки расписаться на рейхстаге смогли. И им для этого не пришлось регистрироваться заранее на определённый временной промежуток, как китайцу с айфоном.

Оставалось уехать к ним – к нашим.
Штык и слёзы
В Трептов-парке волны Шпрее покачивали прогулочные кораблики. Указатель вывел на Пушкиналлее, тянущуюся меж двумя шпалерами мощных платанов.

И хорошо, что не берёз: гладкокожий платан, знаете ли, интересен тем, что всё ботаническое семейство платановых состоит из одного него.
Пушкин - тоже наше всё: где русские – там и он. В Ростоке есть Пушкинплац, и именно на этой площади находится советское воинское кладбище. Таких ухоженных я не видел давно: красные гранитные памятники утопают в мелких пахучих розах, дорожки чисты, будто раскидистые дубы никогда не роняют на них листву.
В Трептов-парке ростокской домашности нет. От этого мемориала требовалась величественность, а не уют. Его простор не пытается, однако, подавить - скорее уж вдохновить.
Скульптуры Вучетича столь же хороши, сколь плохи барельефы на пути к нему с батальными сценами и сталинскими цитатами. Впрочем, главную роль играют не они.

Архитектор Ян Белопольский сумел проложить посетителю истинный путь к апофеозу – путь через сражение и скорбь, через шеренги пирамидальных тополей, торчащих, как штыки, за спинами плакучих, рыдающих берёз, чьи ветви ветру в такт подметают землю. Не знаю, сам ли Белопольский прописал роли для этих живых архитектурных элементов или их вписал в драму его подручный художник, тонко чувствующий природу. Главное, что выбранные актёры трогают сердце зрителя.

Ветер со свистом летел между каменных знамён, склонившихся над дорогой к холму и Солдату на холме. По ступенькам на вершину холма карабкались парни и девушки. Под остриём солдатского меча они расселись на ступенях, как воробьиная стая, гомоня на немецком и английском.

Меч ничем не грозил юным, потому что другой рукой солдат прижимал к себе ребёнка – чужого ребёнка, напомню, ребёнка другой нации, рождённого под флагом побеждённого государства.
Не будем заблуждаться: возможно, сами они пошли бы в какое-нибудь более весёлое место. Но если не что-то, то кто-то должен был привести их сюда. Старший, который их привёл, теперь фотографировал стайку – на память.
Это очень важно: на память.
Тут я понял, зачем мне нужно было увидеть Берлин.
Эклектичный, разноликий, не умеющий сходу очаровывать, большой город измыслил себе сердцевину. Для русского ею стала память. Для наших соседей - уроки, из памяти извлечённые.
Хорошо бы ещё то и другое в русском сознании совместить…
Сергей БРУТМАН
Фото автора